Причина, в силу которой так сложно это излагать, состоит в том, что я слишком много помню. Я помню все, но помню как болван, сидящий на коленях чревовещателя. Будто я на протяжении долгого, непрерывного брачного солнцестояния восседал у нее на коленях (даже когда она стояла) и проговаривал заданный ею текст. Словно она наказала главному Богову лудильщику поддерживать сияние черной звезды сквозь дыру в потолке, словно она повелела ему ниспослать беспросветную ночь, а с ней и ползущие муки, неслышно шевелящиеся в темноте, отчего рассудок превращался в вертящееся шило, упрямо продирающееся в черное ничто. То ли я просто вообразил, что она говорила не переставая, то ли это меня самого так выдрессировали, что я перехватывал мысль, прежде чем она достигала ее губ, слегка приоткрытых губ, лоснящихся от густого слоя кроваво-черной помады. Я в диком очаровании следил, как они открываются и закрываются, – шипели они ненавистью гадюки или ворковали горлицей. Они всегда выступали крупным планом – как рекламный кадр в кино, так что я изучил каждую трещинку, каждую пору, и, когда начиналось истерическое слюноизвержение, я созерцал слюнные пары и пену, будто восседая на каменной подушке под Ниагарским водопадом. Я знал, что должен делать, словно был частью ее организма; я был удобнее, чем болван, потому что мог действовать самостоятельно и меня не надо было отчаянно дергать за веревочки. Я то и дело выкидывал какой-нибудь фортель, чем иногда приводил ее в неописуемый восторг; она, конечно же, притворялась, что не замечает моих проделок, но я всегда мог сказать наверное, когда ей было приятно, – по тому, как она распушала перышки. Она обладала оборотническим даром и была в этом деле ловка и искусна, как сам сатана. После пантеры и ягуара ей лучше всего удавались птичьи повадки: дикой цапли, фламинго, ибиса, лебедя в период любовной охоты. Она придерживалась тактики внезапного нападения: облюбует себе дошедшую тушку и, с налета врезавшись прямо в потроха, моментально выклюет самые лакомые кусочки – сердце, печень или яички; и тут же – глазом не успеешь моргнуть, а ее и след простыл. Но положи кто на нее глаз – прикинется камнем, затаится среди корней у подножия дерева и будет смотреть немигающим взглядом из-под полуопущенных век – застывшим взглядом василиска. Чуть тронь ее – и розой расцветет, исчерна-черной розой с нежнейшими бархатистыми лепестками и одуряющим ароматом. Просто диву даюсь, как восхитительно научился я ей подыгрывать: сколь бы стремительна ни была метаморфоза, я всегда оставался сидеть у нее на коленях – коленях птицы, коленях зверя, коленях змеи, коленях розы, да чего уж там – коленях коленей, губах губ, – тютелька в тютельку, перышко в перышко, желтком в яйце, жемчужиной в раковине, клешней рака, настойкой спермы на шпанских мушках. Жизнь была Скорпионом в конъюнкции с Марсом, в конъюнкции с Венерой, Сатурном, Ураном et cetera ; любовь была мандибулярным конъюнктивитом – цап одно, цап другое, цап, цап, мандибулярный цап-цап мандалического колеса вожделения. Скорее бы обед; слышу уже, как она чистит яйца, а внутри яйца – цып-цып, благословенное предвестие очередного приема пищи. Я ел, словно мономаньяк, – затяжной блаженный жор трижды разговевшегося человека. И пока я ел, она урчала – ритмичный хищнический рык суккуба, пожирающего своего детеныша. Что за блаженная ночь любви! Слюна, сперма, суккубация, сфинктерит – все в одном… брачная оргия в Черной Дыре Калькутты.
Оттуда панисламское безмолвие, где зависла черная звезда, – как в пещерном мире, где затихает даже ветер. Оттуда, раз уж я осмелился об этом порассуждать, призрачный покой безумия, мир людей убаюканных, истощенных веками непрекращающейся бойни. Оттуда сплошная кроваво-красная обволакивающая плева, внутри которой и происходит вся деятельность, оттуда героемир лунатиков и маньяков, что залили кровью небесный свет. До чего же покойна наша мелкая голубино-ястребиная жизнь во тьме! Плоть – бери, зарывайся в нее зубами или пенисом; пышная благоухающая плоть без единой ножевой или ножничной метки, без единого шрама от разрывной шрапнели, без единого горчичного ожога – и никаких опаленных легких. Плоть, приберегаемая для галлюцинирующей дыры в куполе небес, для почти совершенной внутриутробной жизни. Но дыра-то все же была – словно прободная язва в мочевом пузыре, – и не было затычки, которой можно было бы заткнуть ее навсегда, и ни одного мочеиспускательного акта нельзя было справить с улыбкой. Ссы вволю и без стеснения, ага, но как забыть о расколотом своде колокольни, о тишине неестественной, о неотвратимости, ужасе «иного» мира? Ешь до отвала, ага, и завтра опять до отвала, и завтра, и завтра, и завтра – но в итоге-то что? В итоге? И что было в итоге ? Смена чревовещателя, смена колен, сдвиг по оси, очередная трещина в небосводе… что же? что? Я вам отвечу – сидя у нее на коленях, парализованный зубчатыми лучами черной звезды, согнутый в бараний рог, взнузданный, впряженный и загнанный в ловушку телепатической остротой взаимодействующей вашего возбуждения, я не думал ни о чем вообще, ни о чем из того, что было за пределами логова, служившего нам приютом; не было даже ни единой мысли о какой-нибудь крошке на белой скатерти. Я думал чисто в рамках нашей амебной жизни – чистую мысль вроде той, что оставил нам в наследство Иммануил Шерстопятый Кант и воспроизвести которую способен лишь болван. Я досконально проанализировал каждую научную теорию, каждую теорию искусств, каждую крупицу истины в каждой перекошенной системе душеспасения. Я просчитал все вплоть до кончика булавки, да еще и с гностическими десятичными долями в придачу – вроде тех коленец, что откалывает какой-нибудь забулдыга к концу шестидневного запоя. Впрочем, просчитано все было уже для новой, не моей, жизни – для жизни, которую однажды проживет кто-то другой, – может статься. Мы, то бишь она со мной, находились непосредственно в горлышке Бутыли, разве только вот горлышко оказалось отбитым, так что Бутыль – это самая настоящая фикция.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




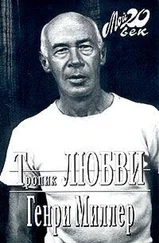



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)