* * *
Я представлял собой, как говорится, сущее противоречие. Меня считали то серьезным и надменным, то веселым и беспечным, то искренним и честным, то халатным и бесшабашным. Я был всеми сразу, а кроме того, кое-кем еще, о чем никто даже не подозревал, и меньше всего я сам. Мальчиком лет шести-семи я любил, забравшись на портновский верстак деда, читать ему, пока он шил. Я живо помню его в те мгновения, когда, разутюживая шов пальто, он застывал, прижимая раскаленный утюг обеими руками и мечтательно глядя в окно. Выражение его лица, когда он стоял так и грезил, я помню гораздо лучше, чем содержание книг, которые мы читали, чем разговоры, которые мы вели, чем игры, в которые мы играли на улице. Мне всегда было интересно, о чем он мечтал, что именно выманивало его из недр самого себя. Тогда я еще не знал, что можно грезить наяву. Я всегда был прозрачен, целостен, сиюминутен. Меня зачаровывала его способность грезить. Я понимал, что он терял всякую связь с тем, чем был занят, всякую мысль о каждом из нас, словно оставался наедине с собой и наедине с собой обретал свободу. Мне никогда не доводилось бывать наедине с собой и меньше всего – когда я оставался один. Всегда будто бы кто-то незримо присутствовал рядом: я ощущал себя крошечной крупицей гигантского сыра, каким, вероятно, представлялся мне мир, – впрочем, я и по сей день вижу его таким. Но я точно знаю, что никогда не существовал как нечто самостоятельное, то есть никогда не считал себя гигантским сыром. Так что даже когда у меня был повод жаловаться, плакать, чувствовать себя несчастным, я сохранял иллюзию причастности ко всеобщему, вселенскому горю. Если я плакал, значит плакал весь мир – так я себе это представлял. Плакал же я довольно редко. И вообще был счастлив, смешлив и доволен жизнью. Жизнью я был доволен потому, что, как я уже говорил, мне и правда все было по хую. У меня все плохо – значит, и везде все плохо, в этом я был глубоко убежден. А плохо бывает обычно лишь тогда, когда все слишком близко принимаешь к сердцу. Это отложилось в моем сознании довольно рано. Взять хотя бы случай с моим другом детства Джеком Лоусоном. Целый год он был прикован к постели, страдая от изнуряющей боли. Джек был моим лучшим другом – по крайней мере, так считалось. Да, поначалу я, наверное, жалел его и, может, даже от случая к случаю заходил к ним домой справиться о его здоровье; но по прошествии одного-двух месяцев я совершенно очерствел к его страданиям. Пора бы ему умереть, сказал я себе, и чем скорее, тем лучше, а рассудив таким образом, я и поступил соответственно: то есть вскоре я и думать о нем забыл, бросил на произвол судьбы. Тогда мне было всего двенадцать лет, и я помню, как гордился своим решением. Помню и сами похороны – ну и позорище! Друзья, родственники – все были там: все сгрудились у гроба, и все ревели, как стадо сумасшедших обезьян. Особенно мамаша меня раздражала. На редкость возвышенное создание – сторонница «Христианской науки», не иначе; она не верила ни в болезнь, ни в смерть, но развела такую вонь, что, пожалуй, сам Иисус восстал бы из гроба. Только не ее ненаглядный Джек! Нет, Джек лежал холодный как лед, суровый и неприступный. Он был мертв – двух мнений тут быть не может. Я это понял и обрадовался. Ни слезинки на него не потратил. Я бы не сказал, что он оказался в лучшем мире, потому что в конечном счете его «я» исчезло. Он ушел, а с ним и его страдания, и страдания, которые он невольно причинял другим. «Аминь!» – сказал я себе и тут же, будучи в легкой истерике, громко пукнул – прямо у самого гроба.
Что за идиотская манера принимать все близко к сердцу! Помнится, однажды я и сам чуть не влип – это когда впервые влюбился. Но я и тогда не особенно переживал. Если бы я и в самом деле переживал, то не сидел бы здесь теперь и не писал бы все это: я бы давно умер от разрыва сердца или же болтался в петле. То был не лучший опыт, ибо он научил меня жить во лжи. Он научил меня улыбаться, когда не хотелось улыбаться, работать, когда не верилось в работу, жить, когда дальше жить было незачем. И хотя я ее забыл, привычка делать то, в чем я не видел смысла, сохранилась у меня надолго.
Как я уже говорил, изначально это был сплошной хаос. Но порой меня заносило так близко к центру, к самому сердцу этой кутерьмы, что только чудом не разнесло на куски все, что меня окружало.
Принято все валить на войну. Заявляю, что меня, моей жизни война не коснулась никаким боком. В то время как другие добывали себе престижные должности, я менял одну жалкую работенку на другую и ни на одной не держался столько, сколько требовалось, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Не успевали меня зачислить в штат, как я получал увесистый пендель. Я обладал незаурядным умом, но внушал недоверие. Где бы я ни появлялся, я всюду разжигал смуту – не оттого, что был идеалистом, просто я, как прожектор, выставлял на всеобщее обозрение глупость и нелепость происходившего. Кроме того, я не отличался усердием лизать задницы. Вероятно, это наложило на меня клеймо. По мне сразу можно было сказать, когда я справлялся о работе, что мне начхать, получу я ее или нет. И разумеется, в большинстве случаев я ее не получал. Правда, со временем сам поиск работы превратился в своего рода деятельность, в приятное, так сказать, времяпрепровождение. Куда я только не заходил, на что только не нарывался! Это был один из способов убивать время – не более скверный, как выяснилось, чем сама работа. Я был сам себе босс и сам себе устанавливал рабочий день, но, в отличие от других боссов, мне грозило лишь мое собственное разорение, мое собственное банкротство. Я не был ни трестом, ни корпорацией, ни государством, ни федерацией и ни конфедерацией наций – более всего я был подобен Богу, если уж на то пошло.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




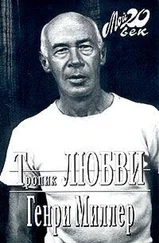



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)