Как раз тогда же, во время нашествия, власти задумали переименовать Вторую Северную улицу в Метрополитен-авеню. Эта магистраль, которая для неевреев была дорогой к кладбищам, стала теперь, что называется, транспортной артерией, связующим звеном между двумя гетто. На нью-йоркской стороне благодаря возведению небоскребов быстро преобразилась прибрежная полоса. На нашей, бруклинской, взгромоздились пакгаузы, а на подступах к многочисленным новым мостам образовались рыночные площади, благоустроенные стоянки, возникли бильярдные, мелочные лавки, мороженицы, рестораны, москательные лавки, ломбарды, etc. Короче, все стало метрополизироваться – в самом гнусном смысле этого слова.
Пока мы жили в старом квартале, Метрополитен-авеню для нас не существовало: несмотря на смену табличек, она так и осталась для нас Второй Северной. Спустя, наверное, лет восемь, а может, десять, стоя как-то зимним днем на набережной и глядя на воду, я вдруг впервые заметил гигантскую башню здания столичной страховой компании, и тогда же до меня дошло, что Вторая Северная приказала долго жить. Воображаемая граница моего мира претерпела изменения. Мое копье странствовало уже где-то далеко-далеко за пределами кладбищ, за пределами реки, за пределами города Нью-Йорка, штата Нью-Йорк, да и вообще за пределами всех Соединенных Штатов. На мысе Лома в Калифорнии я окинул взором широкие просторы Тихого океана и ощутил, как некая неодолимая сила разворачивает меня совсем в другом направлении. Помнится, как-то вечером мы с другом моего детства Стэнли, который как раз тогда вернулся из армии, заглянули в наш старый квартал и бродили по его улицам с грустью и сожалением. Европеец едва ли сумеет понять, что за чувства нас обуревали. В европейских городах, как бы они ни осовременивались, всегда остаются рудименты старины. В Америке рудименты старины тоже встречаются, но под напором новизны они стушевываются, удаляются из сознания, вытаптываются, утрамбовываются и сводятся на нет. Ежедневные нововведения – это и есть та моль, что разъедает ткань жизни, не оставляя после себя ничего, кроме одной огромной дыры. Вот по ней, по этой ужасающей дыре, мы и бродили со Стэнли. Даже война не способна принести подобных разрушений и опустошения. Война способна превратить город в груду пепла и умертвить всех его жителей, но то, что воспрянет из пепла, все равно будет похоже на старое. Смерть животворна – это касается и почвы, и духа. В Америке же разрушение имеет характер полной аннигиляции. Не бывать возрождению в этом раковом наваждении, в наслоениях тяжелых ядоносной парчи; и так слой за слоем, слой за слоем – каждый новый отвратительнее предыдущего.
Так вот, бродили мы по этой гигантской дыре; был вечер, ясный, морозный, искристый зимний вечер, и, когда мы пересекли южную часть и подошли к пограничной линии, мы поклонились всем старым реликвиям, просалютовали каждому месту, где что-то когда-то стояло и где когда-то было что-то от нас самих. И когда мы добрались до Второй Северной (между Филмор-Плейс и Второй Северной и расстояние-то всего ничего, а какой это богатый, насыщенный уголок земного шара!), я притормозил у жилища миссис О’Мелио и окинул взглядом тот дом, где я узнал, что значит жить по-настоящему. Все теперь съежилось до крохотных пропорций, включая и тот мир, что лежал по другую сторону пограничной линии, мир, казавшийся когда-то таким загадочным, таким пугающе огромным, беспредельным. Застыв в трансе, я вдруг вспомнил один навязчивый сон, который регулярно снится мне до сих пор и который, надеюсь, будет сниться, пока я живу. Это сон о том, как я пересекаю пограничную линию. В снах вообще замечательна живость реальности: будто все происходит наяву, а не во сне. По ту сторону черты меня никто не знает, и там я предельно одинок. Даже говор не тот. Впрочем, на меня везде смотрят как на постороннего, на чужака. Запас времени у меня не ограничен, и я шляюсь по улицам в полном блаженстве. Улица-то, собственно, одна – продолжение той, на которой я жил. Наконец я подхожу к железному мосту над сортировочной станцией. Я всегда добираюсь до него только к сумеркам, хотя сюда от пограничной линии рукой подать. С моста я взираю на паутину железнодорожных путей, на товарные вагоны, тендеры, складские ангары, и, пока я гляжу на это скопление странных движущихся субстанций, происходит процесс метаморфозы – прямо как во сне. В процессе трансформации и деформации я начинаю осознавать, что это и есть тот старый сон, что так часто мне снился. Меня одолевает дикий страх, что я проснусь, и я точно знаю, что проснусь как от толчка, именно в тот момент, когда, один в безбрежном чистом поле, соберусь войти в дом, в котором заключено что-то для меня крайне важное. И только я заношу ногу на порог этого дома, как пустырь, на котором я стою, начинает терять очертания, расплываться, исчезать. Пространство сворачивается ковром и целиком поглощает и меня, и дом, куда мне так и не удалось войти.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




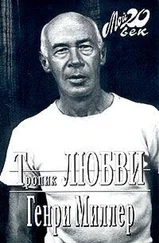



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)