Передышка стала таким же хитрым делом, как дыхание. Вещи были не то что двойственны, но даже множественны. Я стал зеркальной клеткой, всеми гранями отражающей пустоту. Пустоту, которая однажды уже была решительно постулирована мною, когда я еще жил дома и когда то, что называется творчеством, было простой работой по затыканию дыр. Трамвай благополучно доставлял меня из одного места в другое, а в каждый боковой кармашек этого необъятного вакуума я опустил по тонне стихов, предназначенных начисто стереть идею аннигиляции. Передо мной постоянно открывались бескрайние перспективы. Я жил в перспективе – как микроскопическая былинка на линзе гигантского телескопа. Ни единой ночи, когда бы можно было отдохнуть. Сплошной неугасимый звездный свет на выжженной поверхности мертвой планеты. Раз-другой появлялось мраморно-черное озеро, отражавшее мои блуждания среди сияющих огненных сфер. Так низко стояли звезды, так ослепителен был исходящий от них свет, что казалось, вот-вот должна народиться Вселенная. Впечатление усиливалось одиночеством: кругом не было не то что ни птиц, ни зверей, не то что дерева или твари какой – не было даже былинки, ни одного засохшего корня. Казалось, само движение невозможно в этом фиолетовом белокалильном свечении, не предполагавшем хотя бы намека на тень. Это было что-то вроде белой отметины незамутненного сознания – мысль, ставшая Богом. И Бог впервые – в моем понимании – был гладко выбрит. Я тоже был гладко выбрит, безупречен, убийственно аккуратен. Я видел свой лик отраженным в мраморно-черных озерах, и он был усыпан звездами. Звезды, звезды… удар промеж глаз – и всю память отшибло. Я был Самсон, и я был Лакаванна, и в экстазе полного сознания я умирал как единое существо.
Да вот же он я – плыву по реке в своем утлом каноишке. Я сделаю для вас все что угодно – даром! – только попроси. Это Царство Ебли, где нет ни птиц, ни зверей, ни деревьев, ни звезд, ни проблем. Здесь безраздельно господствует сперматозоид. Ничто здесь не предрешено, будущее неопределенно, прошлого не существует. На каждый миллион рожденных 999 999 обречены умереть и больше уже никогда не родиться. Но тому единственному, кто сумеет вернуться домой, гарантирована жизнь вечная. Жизнь внедряется в семя – это и есть душа. Душа есть во всем, включая полезные ископаемые, растения, озера, горы, скалы. Все обладает способностью чувствовать – даже на низшей ступени сознания.
Стоит усвоить эту истину, и ты становишься недоступен отчаянию. Состояние блаженства везде одно и то же – что на низшей ступени лестницы, chez [45] У (фр.) .
сперматозоидов, что на верхней, chez Бога. Бог есть совокупность всех сперматозоидов, достигших абсолютного сознания. Между низом и верхом нет ни остановок, ни полустанков. Река берет начало где-то в горах и несет свои воды в море. На той реке, что ведет к Богу, от каноэ пользы не меньше, чем от дредноута. С самого начала это путешествие домой.
Плыву вниз по реке… Медленно, как нематода, но я слишком мал, чтобы притормаживать на каждой излучине. Вдобавок скользкий как угорь. «Как твое имя?» – кричат мне. «Имя? Да зовите меня просто Бог – Бог-эмбрион»; я следую дальше. Кто-то надумал купить мне шляпу. «Какой, – кричит, – у тебя размер, дурья башка?» – «Размер? Ну пускай будет „Х“!» (Да что они все так орут? Может, думают, я глухой?) Шляпа слетела на очередном перекате. Tant pis [46] Тем хуже (фр.).
– для шляпы. К чему Богу шляпа? Богу нужно просто быть Богом и еще раз Богом. Все это странствие, все эти волчьи ямы, протяженное время – лишь декорации, и на фоне этих декораций – человек, мириады и мириады существ, называемых человеком, расыпанных, как горчичное семя. У Бога даже в состоянии эмбриона отсутствует память. Задник сознания усеян бесконечно малыми, мизерными ганглиями, образующими такой мягкий, как шерсть, власяной покров. Стоит горный козел один в Гималаях и не задается вопросом, как его занесло на вершину. Пасется себе мирно среди декора, а придет время, и он снова спустится вниз. Тычется мордой в землю, пробавляясь нехитрым кормом от щедрот высокогорных пиков. В этом странном козерогическом эмбриозе Бог-козел в тихом блаженстве жует свою жвачку – один среди горных вершин. Большие высоты питают микроб разобщенности, и однажды этот микроб окончательно вытеснит его из души человека и превратит в одинокого, твердого как скала отца, обитающего в вечном уединении, в умонепостигаемой пустоте. Но прежде пойдут морганатические болезни – о них-то мы сейчас и поговорим…
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




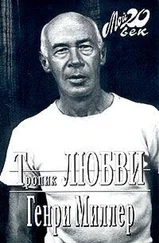



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)