Прежде чем снова стать полноценным человеком, я, вероятно, какое-то время просуществую в виде парка, обычного естественного парка, куда люди приходят стряхнуть усталость, скоротать время. И не важно, что они будут говорить, что делать, потому что принесут они одну усталость, скуку, безысходность. Я стану буфером между белой вошью и красным скрупулом. Я стану вентилятором для удаления ядов, скапливающихся от усилий довести до совершенства то, что до совершенства довести невозможно. Я стану законопорядком, какой существует в природе, каким он видится в мечтах. Я стану диким парком среди кошмара совершенства, тихой, безмятежной мечтой в средоточии буйной активности, шальным ударом на белом сукне бильярдного стола логики. Я не сумею ни зарыдать, ни выразить протест, но, храня полное безмолвие, я буду неотлучно находиться там, чтобы принимать и отдавать. Я не пророню ни единого звука, пока не наступит час вновь стать человеком. Я не сделаю ни единой попытки сохранить, ни единой попытки разрушить. Я не произнесу ни единого слова в защиту, ни единого слова в осуждение. Те, кому уже хватит, будут приходить ко мне, чтобы предаваться размышлению и созерцанию, те же, кто алчет большего, так и умрут, как жили: в распущенности, в неприкаянности, в неприятии истины искупления. Если мне скажут: «Ты должен приобщиться к вере», – я промолчу в ответ. Если мне скажут: «Я спешу, меня там ждет одна пизденка», – я промолчу в ответ. И даже если где-то грянет революция, я промолчу в ответ. Пизденка это или революция – за углом всегда что-нибудь ждет, но мать, родившая меня, обогнула многие углы и промолчала в ответ; в конце концов она вывернулась наизнанку, и я стал ответом.
Разумеется, перехода от такой дикой одержимости манией совершенства к дикому парку, наверное, не ожидал никто, ни даже я сам, но в ожидании смертного часа неизмеримо лучше жить в благости и естественном беспорядке. Неизмеримо лучше, в то время как жизнь несется к роковому совершенству, оставаться крохотной частицей живого космоса, травинкой, глотком свежего воздуха, какой-нибудь лужицей. И лучше молча принимать людей и окутывать их теплом, ибо не будет им ответа, пока они охвачены безумным стремлением завернуть за угол.
Сейчас я вспоминаю, как однажды летом, давным-давно тому назад, когда я гостил у своей тети Каролины, мы кидались камнями неподалеку от Адских ворот. Мы с моим кузеном Джином играли в парке и подверглись нападению ватаги мальчишек. Ни Джин, ни я не знали, за кого мы воюем, но дрались мы на совесть. Там, среди нагромождения камней на берегу реки, нам даже пришлось проявить гораздо больше мужества, чем другим мальчишкам, потому что нас держали за маменькиных сынков. Так получилось, что мы убили одного из нападавших. Как только они нас атаковали, мой кузен Джин запустил в заводилу внушительных размеров камнем и попал ему в живот. Я запустил почти в ту же секунду; мой камень угодил мальчугану в висок, и, когда сраженный упал, он так и остался лежать там навечно, даже не пикнув. Спустя несколько минут пришли полицейские и обнаружили, что мальчик мертв. Он был то ли восьми, то ли девяти лет – почти одного возраста с нами. Не знаю, что было бы, если бы нас поймали. Короче, чтобы не возбуждать подозрений, мы поспешили домой, по дороге слегка почистились и причесались. В дом мы вошли почти такими же незапятнанными, какими его и покидали. Тетя Каролина выдала нам по обычному ломтю кислого ржаного хлеба со свежим маслом, посыпанному тоненьким слоем сахара, и мы как ни в чем не бывало уселись за кухонный стол, слушая ее с ангельскими улыбочками. Был необычайно жаркий день, и тетя решила, что нам лучше остаться дома, в просторной передней с зашторенными окнами, и поиграть в шары с нашим младшим другом Джои Кессельбаумом. Джои имел репутацию мальчика застенчивого и забитого, и обычно мы подтрунивали над ним, но в тот день мы с Джином, не сговариваясь, позволили ему выиграть все наши шары. Джои был так счастлив, что, когда стемнело, затащил нас в свой погреб и заставил сестренку подобрать юбки и показать нам, что у нее под ними. Мы с Уизи, так ее звали, помним, что она моментально в меня втюрилась. Я приехал из другой части города, по их представлениям такой далекой, что для них это было почти как из другой страны. Как будто бы им даже казалось, что и выговор у меня какой-то особый. И если прочей шпане полагалось платить за показ, то для нас Уизи задирала юбку от души. Через некоторое время нам пришлось потребовать от нее, чтобы она прекратила делать это для других мальчишек, – мы были в нее влюблены и хотели, чтобы теперь она вела себя, как подобает порядочной леди.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




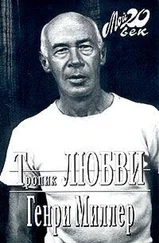



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)