В начале было Слово… – Ин., 1: 1.
С. 72–73. …громогласное, оно разносится и ныне… Любое слово вмещало в себя сразу все слова – для него… – Ср. у Августина: «Так зовешь Ты нас к пониманию Слова-Бога, пребывающего с Богом; извечно произносится оно, и через него все извечно произнесено. То, что было произнесено, не исчезает; чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим: все извечно и одновременно. (…) А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену: оно бессмертно и вечно. И поэтому Словом, извечным, как Ты, Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь…» ( Августин Аврелий. Исповедь; Абеляр П. История моих бедствий. С. 163–164).
…ибо нет ни начала, ни конца… – Ср.: «„Вся тьма вещей – словно раскинутая сеть, и нигде не найти начала“, – говорится в книге Чжуан-Цзы» (цит. по: (Малявин В. В., Виногродский Б. Б.) (Предисловие к разделу «Отцы даосизма») // Антология даосской философии. С. 19).
… моего соответствия – или несоответствия – времени… – Миллер никогда не постулировал своей гениальности как непререкаемого факта, однако нелишне применительно к следующему пассажу привести бердяевское суждение о гениальности: «На пути творческой гениальности так же нужно отречься от „мира“, победить „мир“, как и на пути святости. Но путь творческой гениальности требует еще иной жертвы – жертвы безопасным положением, жертвы обеспеченным спасением. (…) На эту жертву способен лишь тот, кто знает творческий экстаз, кто в нем выходит за грани „мира“. (…) Гениальность – по существу трагична, она не вмещается в „мире“ и не принимается „миром“. Гений-творец никогда не отвечает требованиям „мира“, никогда не исполняет заказов „мира“, он не подходит ни к каким „мирским“ категориям. В гениальности всегда есть какое-то неудачничество перед судом „мира“, почти ненужность для „мира“. (…) В гениальности нет ничего специального, она всегда есть универсальное восприятие вещей, универсальный порыв к иному бытию. (…) Гениальность есть особая напряженность целостного духа человека, а не специальный дар. (…) Гениальность есть иная онтология человеческого существа, его священная неприспособленность к „миру сему“. Гениальность есть „мир иной“ в человеке, нездешняя природа человека. (…) В гениальности раскрывается жертвенность всякого творчества, его невместимость в безопасном мирском устроении» ( Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 393–394).
…ничего не значащая вещь. – Именно такая «вещь» и открывала Миллеру ту свою внутреннюю сущность, что выражается ведантистской формулой «Tat twam asi» («Ты есть То»), указывающей на тождество субъекта и объекта всякого бытия и познания. Вот что говорит об этом Я. Беме в книге «De signature rerum»: «У каждой вещи есть свои уста для откровения… И это – язык природы, на котором каждая вещь говорит из своего качества и всегда открывает и выражает самое себя… Ибо каждая вещь открывает свою мать, которая таким образом дает сущность и волю для создания образа» (цит. по: Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление Т. 1. Критика кантонской философии. М.: Наука, 1993. С. 332).
Вещь в себе – одно из основных понятий кантовской философии; по Канту, вещь в себе непознаваема.
…мне надо было стать клоунам… – Ср. у Ницше в «Ессе homo»: «Я не хочу быть святым, скорее шутом… Может быть, я и есмь шут…» ( Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 762). Как свидетельствует Альфред Перле, «у Генри всегда было некоторое подозрение, что он был одним из богоизбранных клоунов». Сам Генри вспоминал: «Размышляя о жизни и работе Руо, оказавшего на меня очень сильное влияние, я задумался о клоуне, который во мне сидит – всегда сидел. (…) Я вспомнил, как по окончании школы меня спросили, кем я собираюсь стать, и я ответил – клоуном. Перебирая в памяти своих старых друзей, я обнаружил, что большинство из них вели себя как клоуны, – их-то я больше всего и любил. А впоследствии я с удивлением узнал, что самые близкие мои друзья и на меня всегда смотрели как на клоуна» ( Perles A. My Friend Henry Miller: An Intimate Biography. P. 84). Ср. также высказывание Ницше о Шекспире: «Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом!» ( Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 714; «Ессе homo»).
…слиться со стадом. – Ср. слова Заратустры: «Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом» (там же. С. 12).
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)

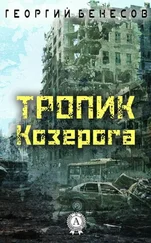
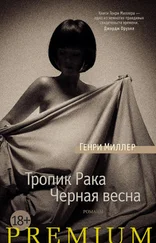
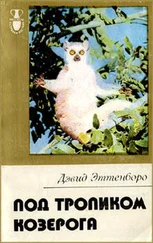
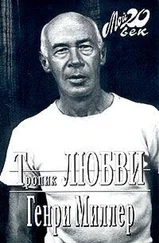

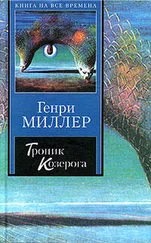
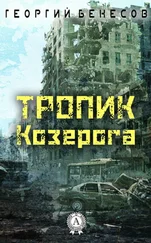
![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)