— Похоже, круп у нее, — сказал Поль Ди, прикрывая в гостиную дверь.
— А жара у нее нет? Денвер, ты ей лоб не щупала?
— Щупала. Холодный.
— Ну, значит, это лихорадка. Когда у человека лихорадка, ему всегда то жарко, то холодно.
— А может, это и холера, — сказал Поль Ди.
— Ты так думаешь?
— Воды уж больно много пьет. Верный знак.
— Бедняжка. И ничего у нас в доме нет от этой болезни. Придется ей самой выкарабкиваться. Вот уж отвратительная болезнь — хуже не придумаешь.
— Она вовсе не больна! — заявила вдруг Денвер так горячо, что они улыбнулись.
Четыре дня девушка спала; просыпалась только для того, чтобы напиться воды. Денвер самоотверженно ухаживала за ней, оберегала ее сон, прислушивалась к затрудненному дыханию и, из ревности и отчаянной любви, старательно скрывала, что у их гостьи недержание мочи. Она тайком стирала и выполаскивала простыни, когда Сэти уходила в свой ресторан, а Поль Ди отправлялся к причалам, чтобы подзаработать на разгрузке барж. Она готова была без конца кипятить и подсинивать белье, лишь бы эта лихорадка у Возлюбленной поскорее прошла без следа. И так она была поглощена всеми этими заботами, что порой забывала поесть и совсем не ходила в свою изумрудную комнатку.
— Бел? — звала шепотом Денвер. — Бел? Возлюбленная? — Но когда черные глаза чуточку приоткрывались, могла выговорить лишь: — Я здесь, я все время здесь, я с тобой.
Порой, когда Возлюбленная слишком долго смотрела перед собой туманным взором и молчала, только облизывала губы и глубоко вздыхала, Денвер просто с ума сходила от страха.
— Да что же с тобой такое? — не выдерживала она.
— Тяжело, — шептала та. — Здесь очень тяжело.
— Может, сесть хочешь?
— Нет, — шелестел еле слышный голос.
Прошло еще три дня, прежде чем Возлюбленная заметила оранжевые квадраты на темном фоне лоскутного одеяла. Денвер была очень этим довольна — теперь больная бодрствовала куда дольше. Казалось, она была полностью поглощена созерцанием выцветших оранжевых лоскутов, даже попыталась приподняться на локте и погладить их. Попытка эта, впрочем, совершенно лишила ее сил, и Денвер перестелила одеяло так, чтобы самая веселая его часть была как раз на уровне глаз девушки.
Терпение, то, чего Денвер никогда не имела прежде, стало теперь основной ее чертой. Пока мать ни во что не вмешивалась, она была прямо-таки идеальной сиделкой, самим состраданием. Но стоило Сэти попытаться помочь, как Денвер превращалась в мегеру.
— Она сегодня хоть ложку чего-нибудь съела? — строго спрашивала Сэти.
— Она и не должна ничего есть, раз у нее холера.
— А ты уверена, что это холера? Это ведь только Поль Ди так говорит.
— Ну не знаю, да только пока что она все равно есть ничего не станет!
— По-моему, у холерных больных рвота все время…
— Ну так тем более есть ей ни к чему, верно?
— Знаешь, от голоду-то ей ведь тоже умирать ни к чему, Денвер.
— Ох, мама, оставь нас в покое. Я о ней сама позабочусь.
— Она хоть говорила что-нибудь?
— Уж это-то я бы тебе сразу сказала.
Сэти посмотрела на дочь и подумала: да, ей здесь было очень одиноко. Очень.
— Интересно, куда это Мальчик подевался? — Сэти решила, что пора переменить тему.
— Он больше не вернется, — сказала Денвер.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю, и все. — Денвер взяла с тарелки кусок сладкого пирога и пошла в гостиную.
Она уже хотела было сесть на привычное место, как вдруг глаза Возлюбленной широко распахнулись. Сердце у Денвер бешено забилось. Нет, она не впервые смотрела в это лицо и не впервые в этих больших черных глазах не было ни малейших признаков сонливости. И не впервые она видела яркие, голубоватые белки. Дело в том, что эти огромные черные глаза вообще ничего не выражали.
— Ты чего-нибудь хочешь?
Возлюбленная посмотрела на кусок пирога у Денвер в руке, и та протянула его ей. Больная улыбнулась, и сердце Денвер тут же перестало колотиться как бешеное, чувствуя долгожданное облегчение, точно путник, который наконец-то добрался до дому.
С этой минуты и во все последующие дни всегда можно было рассчитывать, что любая сладость доставит Возлюбленной удовольствие. Она словно и на свет-то родилась только для того, чтобы сладости есть. Годилось все — сотовый мед, посыпанный сахарным песком ломоть хлеба, старая черная патока, намертво затвердевшая в жестянке, лимонад, самодельные конфеты из сахара и масла, и вообще — все сладкое, что Сэти приносила домой из ресторана. Возлюбленная превращала стебель сахарного тростника в мочалку, однако продолжала держать его во рту, даже когда последняя сладкая капелька, казалось, была высосана. Денвер, глядя на это, смеялась, Сэти улыбалась, а Поль Ди говорил, что его от этого зрелища просто тошнит.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




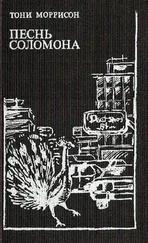

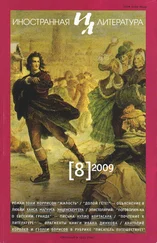

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

