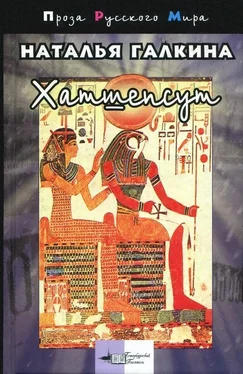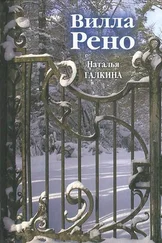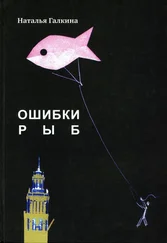— Не надо выходить из круга. И рук не поднимайте. Стойте спокойно. Теперь уже недолго.
Вещи таяли. Они перестали, собственно говоря, быть вещами, но еще оставались их образами, пока не исчезли совсем. Мы стояли в пустом белом объеме — белый потолок, белые стены, белый пол — на коричневом круге. Две цветные фигуры в известковом параллелепипеде. Модернистский театр. Сюр, одним словом.
А потом в воздухе стало что-то возникать. Сначала это было неуловимо. Потом я уже мог различать прозрачные голограммы, набиравшие студенистую, постепенно сгущающуюся и белеющую плоть. Комната меняла обстановку. В углу возник объем, оказавшийся сундуком — белый гипсовый сундук; у стенки появилась незаправленная белая кровать, у которой стояла белоснежная табуретка с таковыми же стаканом и будильником; с потолка на шнуре свисала непрозрачная модель лампочки. И все это помаленьку набирало цвет. Сундук оказался обшарпанным и грязно-зеленым, обои — выцветшими и грязно-голубыми, одеяло на кровати (никелированной) — розово-кисельным. Лампочка на шнуре загорелась.
Жоголов, молниеносно присев, развинтил фонендоскоп и запихал его в карман. На зашарпанном полу выделялся круг, на котором мы стояли. Только теперь я почувствовал, что у меня болят ноги, руки, шея от игры в это «замри». Жоголов всмотрелся в меня, но не сказал ни слова.
А я сказал — весьма глубокомысленно:
— Ну у вас тут и дела.
И он невпопад мне ответил:
— В разведку я… с вами бы пошел…
Как будто с акцентом сказал, слова подбирал. И засмеялся.
— На голографию похоже, — сказал я.
И тут же, идя за Жоголовым, стукнулся о железную кровать. Для голограммы она была, пожалуй, жестковата.
Я чуть носом не уткнулся в спину своего проводника, который внезапно остановился в дверном проеме. Он не подал мне знака об опасности, но повернулся, просто стоял и смотрел. Заглянул в комнату и я — из-под его плеча. В комнате были люди.
Похоже было, что здесь собираются снимать фильм из старинной жизни, но аппаратуру киносъемочную занести не успели, режиссер запоздал, а актеры, добросовестные актеры, не теряя времени даром вживаются в образ, входя в роль, создают настрой… или как там это у них называется. Герой сидел у клавесина… впрочем, скорее это была фисгармония, по крайней мере, у своего чудака-приятеля видел я фисгармонию, похожую на такую вот клавишную штуку; что касается клавесина, затрудняюсь, последний раз слышал в Филармонии в детстве, жена не любительница классической музыки, а одного меня и вовсе в концерт не затащишь.
Итак, герой сидел у клавесина, при свечах, как ему и положено, в парике, как и следует по роли, и листал ноты. Героиня сидела в кресле с книгою на коленях, наклонив голову. Похожи были они на трубочиста и пастушку из сказки Андерсена, маленькие, нереальные, шелк, кружева, пудра. Под музыку Вивальди, под старый клавесин. Наконец, он заиграл, это напоминало музыкальную шкатулку, дама наклонила головку и поворачивалась к нему, вот только движения были однообразные и затверженные, и голубые глаза ее блеснули стеклянным блеском… а ведь это кукла, мать честная, кукла в человеческий рост!
— Слышал я, сударь мой, — раздалось из-за высоченной шелковой ширмы в углу у окна, — что в зале небезызвестного камергера и кавалера на Невской перспективе некий мастер Франсуа из Парижа художественную машину показывает, которая представляет пастуха и пастушку в натуральную величину на манер оных, тринадцать арий на флейтоверсе играющих?
— И, милый, — отвечал с хриплым хохотком невидимый собеседник, — оные кавалер и дама — крепостных моих работа, и Ванька мои с Сенькой ничуть Франсуа не уступают; разве что его пара сидит под тенью дуба, на котором движутся птицы разного рода и голос свой с тоном флейты соединяют, а мои окромя кур да кукушек ни о каких птицах понятия не имеют…
Смех. И под старомодную мелодию, под этот смех мы вышли. И тут же на нас холодом пахнуло, как из погреба. Заклеенное крест-накрест полосками бумаги окно покрыто было узорами мороза… то есть это было не окно… В комнате стояла печь-буржуйка. И голоса здесь слышались, смех, какие-то шорохи, шаги, звяканье. Полное впечатление, что включили фонограмму, а актеров не выпустили. Трансляцию спектакля по радио это напоминало. Кроме аплодисментов и кашля зрителей. Их стерли.
— Морозов, неужели и ты в медицинский?
— И я, бэби.
— Да они сговорились
— Ничего подобного. Скажи, Пусси, мы разве сговаривались?
Читать дальше