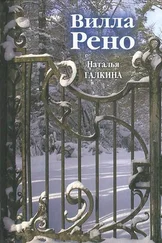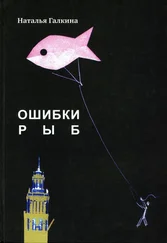— Оно не длинное, — сказала ученица.
— Тогда я прочту его вслух, — сказал учитель. — «Когда человек мал, его защищает то, что он младенец, потому что нельзя обидеть младенца. Все помнят об этом, кроме одного царя, поэтому царю имя Ирод. Когда человек стар, он слаб. Он умен, даже если он глуп. Он уважаем, потому что в нем время. Он уже сделан временем». Лучше написать «создан». «Студент зря убил старуху. Он себя убил, потому что, убив прошлое, убил будущее. Не надо убивать и забывать, надо любить и помнить. Я хочу принести незабудки и ландеши на все кладбища: на Смоленское, армянское, еврейское, католическое, лютеранское, расстрельное, военное, на воду реки, где тонули. Я буду молчать, пускай цветы говорят».
Последовала пауза.
— Ты молодец, — сказал Шарабан. — Тебе пятерка. Вот только в слове «ландыши» должно быть «ы». Погоди, что ж ты исправляешь, не после «ш», а после «д».
— Молодец разве не мужского рода? — спросила Сплюшка.
— Унисекс, — ответил Лузин.
Глава двадцать восьмая
День поминовения
Споминай обо мне.
Надпись на бисерном кисете восемнадцатого века
Мал был лузинский флигелек во дворе последней улицы из мнемонического питерского присловья. Легко догадаться, что жил он на Бронницкой, на улице Балерины.
Проезжая или проходя мимо квартала между Техноложкою и Витебским вокзалом, бывало, скажет с улыбкою житель петербургский:
— Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины?
И тут же радостно откликнется другой петербуржец:
— Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая!
Нынче подобная перекличка редкость, словно кругом одни иногородние; впрочем, большая часть местных тоже как бы иногородние, — или и город теперь иной?
Вид еще не перемолотых вандалами-застройщиками двухэтажных или трехэтажных флигелей петербургских двориков возвращал Шарабану полуутерянное чувство масштабности человека внутри града, внутри дома своего, полузабытую, присущую юности радость бытия.
— В энтих домишках чувствую себя как в петровском Монплезире, — говаривал он, — хорошо, как никогда, они не малы и не велики, не для великанов и не для карликов: то, что надо.
Поднявшись по узкой со стертыми множеством шагов краями ступеней лестнице на второй этаж, Шарабан оказался перед дверью лузинского скворечника.
— Кто? — спросил из-за двери вызванный звонком суровый голос Лузина, не удосужившегося на сей раз к «кто» добавить «там».
— Шарабан собственной персоной, ваш сотрудник-собутыльник, пустите Христа ради.
Вид у Лузина был серьезный, звуки музыки доносились из комнаты его.
— Что? — спросил он.
— Так ты на работу не вышел, тебе не дозвониться, Кипарский собирался тебя отправить в неразвалившееся НИИ, где у тебя полно знакомых, на предмет добывания макулатуры, прислал меня за тобою.
— Входи, раз пришел.
Всякий раз, входя, Шарабан глядел на пол: вместо паркета в комнате Лузина аккуратно настелены были крашеные доски, отчего интерьер напоминал комнату с картины Ван Гога. Потом переводил он взгляд на стену, противоположную книжным полкам с пола до потолка, всякий раз собираясь рассмотреть как следует странные картины, расспросить о живописце, о сюжетах (кажется, на всех картинах изображались встречи разных персонажей друг с другом), но отвлекался, а потом уходил навеселе, спеша домой.
На сей раз ему не удалось обратить внимание ни на арльский пол, ни на живопись.
Всюду свечи разной толщины и высоты, в том числе малые огарки, горели на блюдцах, в плошечках из-под съеденной в баснословные новогодья икры, в консервных банках; только одна-единственная зажжена была на столе в хрустальном лилово-мутном подсвечнике.
На одной из книжных полок стояла большая фотография Анны Герман с черным веером в руках. Чуть наклонив голову, певица смотрела на Шарабана, завитки волос на виске, отрисованные тушью ресницы, двойная длинная нить жемчугов. Внизу, на полу, под фотографией, шелестел в старом бидоне сухой сноп полевых цветов.
Две розы в банке из-под огурцов возле знакомого лузинского кофра. Над кофром, на этажерке, — еще одна фотография, черно-белая, на сей раз пейзаж, от которого не мог Шарабан несколько минут глаз отвести.
Возле доисторического проигрывателя замыкали круг бокал шампанского да несколько стаканов с водкой, накрытых ломтиками хлеба; Шарабан стал считать стаканы, вышло шесть. В седьмом стакане голубела горсть искусственных незабудок, каждая из них пыталась пролепетать «forget-me-not».
Читать дальше