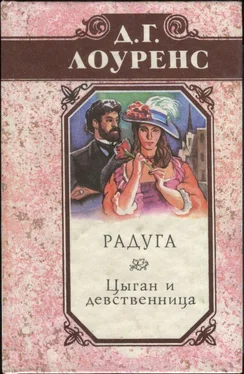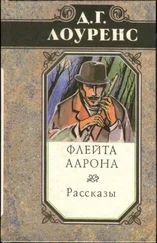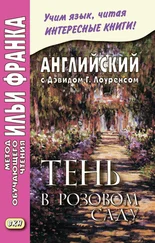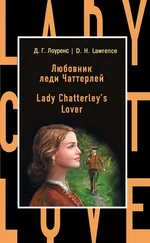— Ты хочешь сказать, что не знаешь, что такое любовь? — настаивала хозяйка дома.
— Нет! — ответила Иветт с обезоруживающей прямотой. — Я думаю, что не знаю. Это ужасно в моем возрасте?
— Неужели нет ни одного мужчины, который заставил бы тебя чувствовать совсем, совсем по-другому? — спросила миссис Иствуд, снова посмотрев на майора повлажневшими глазами. Он курил с безмятежным видом, совсем не вмешиваясь в разговор.
— Думаю, что нет, — смущенно произнесла Иветт. — Если это… да… если только это не цыган, — она печально склонила голову.
— Какой еще цыган? — воскликнула маленькая еврейка.
— Тот, которого звали Томми, и который во время войны ходил за лошадями в полку майора Иствуда, — холодно пояснила Иветт.
Маленькая женщина пристально посмотрела на Иветт. Она была шокирована.
— Но не влюблена же ты в этого цыгана! — воскликнула она.
— Ну, — сказала Иветт, — я не знаю. Только он единственный, кто заставлял меня чувствовать иначе! Да, действительно! Это так!
— Но как? Каким образом? Он говорил что-нибудь тебе?
— Нет! Нет!
— Тогда как? Что он делал?
— О! Он просто смотрел на меня!
— Как?
— Ну, вы знаете, я не сумею объяснить… Но по-другому. Да, по-другому. По-другому, совсем не так, как любой другой мужчина, когда-либо смотревший на меня.
— Но как он смотрел на тебя? — настаивала еврейка.
— Ну, так, как если бы он действительно, по-настоящему, хотел меня, — сказала Иветт, ее мечтательное лицо покраснело как бутон цветка.
— Какой подлый, отвратительный парень! Какое право он имел так смотреть на тебя? — возмущенно воскликнула женщина.
— Кот может смотреть и на короля, — хладнокровно вмешался майор, и на его лице появилась кошачья улыбка.
— Вы думаете, что он не должен был этого делать? — спросила Иветт, поворачиваясь к нему.
— Конечно, нет! Цыган с полудюжиной грязных женщин, бродящих с ним по дорогам! Конечно, нет! — вышла из себя миниатюрная еврейка.
— Это было удивительно, — возразила Иветт. — Потому что это было действительно прекрасно. И это было что-то совсем не похожее на то, что было в моей жизни раньше.
— Я думаю, — произнес майор, вынимая трубку изо рта, — что желание — чудеснейшая вещь в жизни. Любой, кто действительно может его почувствовать — король, а больше я никому не завидую! — Он вернул трубку на прежнее место. Жена ошеломленно смотрела на него.
— Но, Карл, — воскликнула она, — каждый обычный мужчина ничего больше и не чувствует!
Он опять вынул трубку изо рта.
— Это просто аппетит, — сказал он, и снова глубоко затянулся.
— Вы думаете, цыган — это реально? — спросила его Иветт. Он пожал плечами.
— Не мне судить, — ответил он, — если бы я был на вашем месте, я бы знал и не спрашивал бы других людей.
— Да, но… — запнулась Иветт.
— Карл! Ты не прав! Каким образом это могло быть реальностью! Что могло бы быть, если она, допустим, вышла бы за него замуж и ушла в табор?!
— Я не говорил: выходи за него замуж! — ответил Карл.
— О, любовная связь! Какое безобразие! Как бы она себя при этом чувствовала? Это не любовь! Это — проституция!
Карл некоторое время курил молча.
— Этот цыган был лучшим человеком из всех, кто у нас был с лошадьми. Чуть не умер от воспаления легких. Я думал, что он умер. Для меня он — воскресший человек. Я сам воскресший человек, насколько это возможно. — Он посмотрел на Иветт. — Я был похоронен под снегом в течение 20 часов, — пояснил майор, — и был почти мертв, когда меня откопали…
Холодная пауза в разговоре.
— Жизнь ужасна! — сказала Иветт.
— Это было случайно, что они меня откопали.
— О! — медленно отреагировала Иветт. — Вы знаете, это, должно быть, судьба.
Ответа не последовало.
Когда пастор, наконец, узнал о дружбе Иветт с Иствудами, она была по-настоящему напугана его реакцией. Она полагала, что ему не будет до этого никакого дела. В лучшем случае, думала она, он для приличия скажет несколько слов в своей забавной манере. «Ты бы лучше… Я бы на твоем месте…» И так далее, в таком ключе. По ее мнению отец был полностью лишен условностей и был до невозможности покладистым. Как он сам говорил о себе, он был консервативным анархистом, что означало, что он был как и великое множество других людей, просто неверующим скептиком. Анархия распространялась и на его шутливые разговоры, и на его скрытые мысли. Консерватизм же, базирующийся на патологическом страхе перед анархией, контролировал каждое его действие, в его тайных мыслях бывало такое, чего можно было испугаться. Более того, в жизни он катастрофически боялся необычности. Когда его консерватизм и страх были чрезвычайно сильны, он поднимал губу и, немного обнажая зубы в собачьей усмешке, становился жалким.
Читать дальше