Отец, которого мы совсем недавно похоронили, был на войне, как я.
На войне отец отправлял немецких овчарок под немецкие танки и на немецкие минные поля. И в караул, и для выноса наших раненых. А еще раньше, до войны, когда я выращивал и воспитывал в Доме пионеров немецких овчарок, он говорил мне, что собаки, как люди, все понимают…
* * *
Он ушел, уехал, давний мой добрый знакомый.
— Что так скоро? — спросил я его уже на станции.
— Не сердись, — опять повторил он, — но, понимаешь ли, мне… Эти глупые собаки по ночам совершенно лишают сна! А у меня давление, спазмы, говорят…
Он долго что-то говорил о себе, и о том, что его беспокоит. Говорил, пока не подошла электричка. Он не забыл в последнюю минуту спросить меня о том, как я похоронил отца.
— Ничего, похоронил…
— Ну, будь здоров, — крикнул он мне из тамбура. — Звони!
Я возвращался со станции поздно — около двенадцати. В поселке у нас лаяли собаки. Ласково и лениво, неистово и исступленно, а то и настороженно…

СТАРОЕ — МОЛОДОЕ
Смерть не страшна,
Мы не раз с ней встречались в бою,
Вот и сейчас…
Из песни военных лет
— А ты маме своей написал?
Он всегда меня спрашивал об этом, когда на заданно уходил я, и я спрашивал его о том же, когда на задание уходил он.
— Написал.
Рядом — немецкие домики. Такие, как этот, где мы сейчас ночуем. Ночевали. До смены. До выхода на задание. Их много тут, под Бреслау, — сто, двести, триста — никто не считал, и все они ничьи, выбирай любой, потому что ни одного немца нет, цивильные немцы убегают от нас, мы их не видим, только… другие немцы, в форме. Те, с которыми мы имеем дело. Те, которые пришли к нам, в Россию, те, за которыми мы идем сейчас назад, уже по Германии.
Домики одинаковые и разные. Под черепицей. Красивые. Каждый домик — законченный домик. Даже мебель не повторяется. Домики, домики, домики. Странно их называть так, а как иначе? Не хаты, не избы, не дачи, не дома, как у нас…
Тогда мы еще не знали слова «коттедж». Может быть, действительно были слишком молоды? И потому писали с фронта только мамам. Но мало ли чего мы еще не знали. Я, например, не знал, что Сурен станет известным композитором. И что когда-нибудь он, армянин, напишет такие русские песни, какие еще никто не писал…
Мы были солдатами, мы знали свое дело, но не знали будущего, не знали, вернее, не думали, молоды мы или нет. На войне когда хоронят, не говорят, что ты погиб в расцвете сил.
* * *
Не знаю, как в Москве — в Москве вечно некогда, — но за городом в сильные морозы я открываю форточку и вижу, как дрожит лес. Окна заморожены, даже никаких обычно описываемых узоров на них нет, матовый цвет стекла, и только, а в открытой форточке кусочек леса — ствол сосны, рыжий, отчетливо видимый глазу, и ветви елей в снегу. Ствол сосны дрожит от теплого воздуха, вырывающегося на волю, и дрожат ветви елей, но лишь те, на которых поменьше снегу. Дрожат мелко, будто их видишь через прозрачную, чуть вибрирующую пленку или словно им холодно. Не дрожат только большие ветви с космами снега. Они вроде замерли, успокоились, согретые теплой одеждой.
Сурен как-то не вяжется со всем этим — с форточкой и с тем, что я вижу за ней. И даже с нынешними морозами. А может, я ошибаюсь. Ведь в музыке он такой деревенский, русский…
Мне всегда казалось, что Сурен очень удачлив. Мы почти не виделись с ним после войны, а если и виделись, то мельком, случайно, как мало знакомые люди, но я слышал его песни, которые пели все, и не мог не радоваться за него и за себя, знающего его так давно.
И вот мы впервые сидим по-настоящему. Впервые через двадцать три года после войны. Я и он. Он, располневший, седой, с нависшими на глаза черными бровями, и я. Пожалуй, хотя это странно, он всегда был таким и там, на войне, и мне кажется, что вот-вот он спросит меня: «А ты маме своей написал?»
Но нет, он не спросит, потому что сейчас не война, и я никуда не ухожу, и за окнами подмосковный зимний лес; может быть, только коттедж, где мы встретились, напоминает о том давнем времени. У нас уже давно строят такие домики — коттеджи.
— Пожалуй, удеру сегодня в Москву, — говорит он. — Ни черта не получается! Месяц бьюсь, ни ноты!
— Но ты пойми…
Мне хотелось сказать ему что-то в утешение, да и в самом деле, он столько уже написал, — как говорится, дай бог всем, и за одну его песню о России я отдал бы полжизни, но он перебил меня, даже как-то зло, с раздражением:
Читать дальше
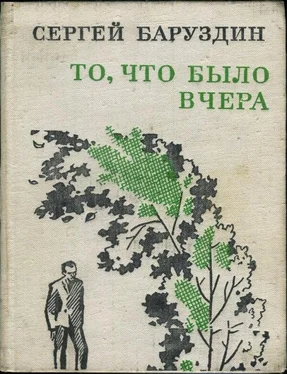





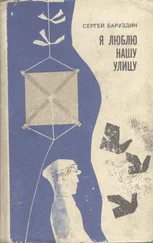
![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/429167/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si-thumb.webp)




