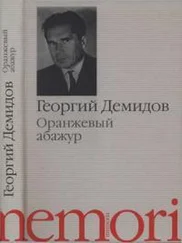— Они должны были играть?
— А как же! Вчера, в пять часов по Гринвичу… Эх, Пеле, Пеле! Но Родригес — тоже неплох!
Шукур, как он выразился, поседел от забот: что будет делать наша команда в предстоящем мировом первенстве? Кого мы противопоставим Пеле и Гарринче? О чем думает наша футбольная федерация? Как увеличить шансы на выигрыш? Эти заботы, однако, не мешали Шукуру расчетливо, даже чересчур расчетливо, разливать водку, нарезать колбасу и готовить салаты…
Леварса сказал, что всех футболистов надо прислать в их колхоз на прополку табака. Шукур смертельно обиделся. Он перестал резать колбасу и мрачно попросил:
— Леварса, если любишь меня — не говори больше так.
— За футболистов! — крикнул Леварса.
— Это — другой мармелад! — весело заметил Шукур.
Примирение состоялось, хотя не думаю, чтобы Шукур серьезно мог обидеться на своих клиентов из-за какого-то Пеле. А впрочем, кто знает…
Недалеко от «Националя» показался какой-то голый товарищ. Не совсем голый, разумеется. Он был в черных узеньких трусах, черных очках и голубых резиновых туфлях. Он нес чемоданчик. (Позже выяснилось, магнитофон…)
— Ага! — рявкнул Леварса, завидя нагиша. — Это он!
Ануа пригласил к нам товарища с магнитофоном.
— Не этот ли хотел лишить меня молока? — осведомился я у Леварсы.
— Он самый. Но он — свой парень!
Мы познакомились. Он назвался Витольдом. Наверное, лет ему тридцать два — тридцать пять. Но выглядел он моложе. Не пил ни вина, ни водки. Не ел колбасы. И не прикоснулся к салату. Шукур очень этому удивился.
— Ничего не понимаю, — проговорил он смущенно. — Может, вам коньяку?
— Тоже не пью, — сказал Витольд.
— Он любит молоко, — заметил я.
— Молоко? — Шукур чрезвычайно удивлен.
— Да, — признался Витольд, — обожаю молоко. Я могу его пить литрами. Просто как воду. Дома открываю холодильник и достаю такой алюминиевый жбан. Там всегда есть молоко. Только не порошковое. А цельное.
— Вы москвич? — спросил я его.
— Да. Коренной. А вы?
— Я сказал, кто я: москвич, журналист, назвал свое имя и фамилию. (Рассчитывал, что и он тоже представится и объяснит, кто он.)
— А вы надолго сюда?
Витольд лапидарен. Сообщил, что здесь ему нравится, что молоко у Леварсы отличное. При этих условиях, наверное, пробудет в Скурче недели две. А после «махнет» в Сочи, оттуда — в Крым, а уж потом — в Москву.
— Ого, — сказал Шукур, — у вас маршрут — люкс! А вот трусы — еще лучше. Какой это материал?
Витольд небрежно произнес слово — не то силон, не то перлон.
— Хорошие, хорошие, — приговаривал Шукур, любуясь трусами Витольда.
— Хотите такие? — предложил Витольд.
— Очень! — У Шукура глаза загорелись.
— Впрочем, у вас… — Витольд критически присмотрелся к Шукуру. — Вы какой размер носите?
— Ей-богу, не знаю!
— Наверное, пятьдесят шестой. Да… Не подойдет. У меня с собой пятьдесят второй. Вот на вас будут хороши. — Витольд обратился ко мне.
— Я бы купил, — сказал я. — Дорогие?
— Пустяки, — обронил Витольд.
— Спасибо. Если можно, то парочку.
— Хоть дюжину, — сказал Витольд. — Их делают на нашей фабрике.
— Возьму и я, — решил Шукур.
Шукур на минутку задумался. Что-то прикидывал в уме. А потом поинтересовался:
— Правда, дюжина?
— И две, — не моргнув глазом, запросто сказал Витольд.
— Договоримся!
Шукур разлил водку. Пододвинул к нам закуску.
— Я угощаю, — сказал он.
Леварса заметил, что когда угощают — надо пить. Он первый поднял рюмку. Витольд отказался, а я подчинился Леварсе.
Шукур громко, точно за большим столом, обратился к нам с короткой, но выразительной речью:
— Кто пьет — умирает, кто не пьет — тоже умирает! Будьте здоровы, как львы, будьте долговечны, как дубы, будьте всегда радостны и богаты. Аллаверды!
Гляжу: открывается дощатая дверь, и из «отдельного кабинета» скурчинского «Националя» показывается Глущенко. Он весь потный, раскрасневшийся такой.
— Ба! — говорит он зычно. — Вы здесь? Пьете в стоячку?
— Как все. А вы?
— Я съел пару шашлычков и попробовал этой проклятой чачи. Шукур, сколько градусов в твоей чаче?
Шукур смеется. В черном четырехугольнике окна-прилавка этакой ядреной тушей красуется Шукур. Он говорит, что градусов в чаче не считал, но чача в самом деле первосортная. Такой чачей можно уложить любого богатыря.
Глущенко берет меня под руку и отводит в сторонку.
— Лев Николаевич, — говорит он тихо, — к вам заходила Лида. Вы уж извините ее.
Читать дальше