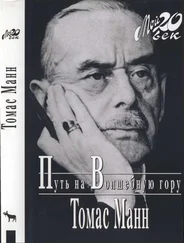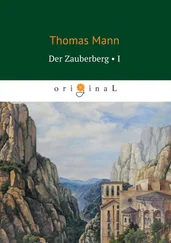Хорошо было господину Ферге, единственному участнику маленького кружка, стоявшему вне всех этих сложных и запутанных отношений! Что касается отношений, то следует отметить два коротких разговора, две диковинных беседы с глазу на глаз, которые имели место в те дни между нашим негероическим героем и Клавдией Шоша, а также между ним и ее спутником, притом с каждым в отдельности – один происходил в вестибюле, вечером, когда «препятствие» лежало наверху в приступе лихорадки, а второй – днем, у ложа мингера Пеперкорна…
В тот вечер в вестибюле царил полумрак. Обычное совместное пребывание пациентов после ужина было недолгим и каким-то вялым. Общество быстро разошлось по балконам для вечернего лежания, иные запретными для больных путями спустились вниз, в широкий мир, чтобы предаться танцам или игре в карты. Только одна лампочка горела где-то под потолком опустевшего вестибюля, были чуть освещены и прилегающие к нему гостиные. Ганс Касторп знал, что мадам Шоша, ужинавшая без своего повелителя, еще не вернулась на второй этаж, а сидит одна в читальне, почему и он медлил уйти к себе наверх. В глубине вестибюля, в той его части, которая отделялась от остальной комнаты одной плоской ступенькой и несколькими белыми арками с обшитыми панелью столбами, он уселся возле выложенного изразцами камина, в такой же качалке, в какой некогда качалась Маруся, когда Иоахим единственный раз говорил с ней. Ганс Касторп курил папиросу, после ужина это здесь разрешалось.
Она вошла, он услышал ее шаги, шелест ее платья за своей спиной, вот она уже подле него, и, помахивая каким-то письмом, она спрашивает своим Пшибыславовым голосом:
– Консьерж уже ушел. Дайте хоть вы timbre-poste! [237]
В этот вечер на ней было темное платье из легкого шелка, с круглым вырезом вокруг шеи и широкими рукавами, стянутыми у кисти манжетами на пуговицах. Ее туалет понравился ему. Кроме того, она надела жемчужное ожерелье, мягко поблескивавшее в полумраке. Он поднял глаза и посмотрел на ее киргизское лицо. И повторил:
– Timbre? У меня нет.
– Как? Ни одной? Тогда tant pis pour vous [238]. Значит, вы не можете оказать даме любезность? – Она надула губы и пожала плечами. – Я разочарована. Ведь вы, мужчины, должны быть хоть точны и исполнительны. А мне почему-то представлялось, что в вашем бумажнике лежат сложенные листы почтовой бумаги, они распределены по сортам.
– А зачем? – отозвался он. – Писем я не пишу. Да и кому писать? Изредка отправишь открытку, и то оплаченную заранее. И кому бы я стал писать письма? У меня никого нет. У меня уже нет никакой связи с равниной, я потерял ее. В нашем сборнике народных песен есть такая песня: «Для мира я потерян». Так дело обстоит и со мной.
– Ну, тогда дайте хоть папиросу, пропащий вы человек! – сказала Клавдия, опускаясь против него на стоящую у камина скамью с полотняной подушкой; она закинула ногу на ногу и протянула руку. – Видно, запас у вас большой. – Она небрежно взяла из протянутого им портсигара папиросу и, не поблагодарив, закурила от зажигалки, которую он поднес к ее склоненному лицу. В этом ленивом «Ну, тогда дайте», в этой манере брать не благодаря сказывалась беззаботность избалованной женщины, но, кроме того, и человеческая, вернее «человеееческая» привычка к товарищеской общности владения, какая-то первобытная и мягкая, сама собой разумеющаяся естественность, с какой она считала нужным брать и давать. Он отметил это с пристрастием влюбленного. Потом сказал:
– Да, большой. Папиросы у меня всегда есть. Их нужно иметь. Да и как обходиться без них? Не правда ли, если так подумать, то это называется страстью? Говоря откровенно, я человек не страстный, но и у меня бывают страсти, флегматические страсти.
– Меня необыкновенно успокаивает, – сказала она, выпуская дым вместе со словами, – ваше заявление, что вы человек не страстный. Да и как бы вы могли быть им? Вы оказались бы выродком, страсть – это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний. Страсть – это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению. C’est ça [239]. И вы даже не подозреваете, что это ужаснейший эгоизм и что вы, мужчины, в один прекрасный день окажетесь в положении врагов человечества!
– Стоп, стоп! Сейчас уж и враги человечества! Почему ты это говоришь, Клавдия, зачем так обобщаешь? Ты имеешь в виду что-то определенное и личное, раз ты настаиваешь на том, что для нас важна не сама жизнь, а наше обогащение? Вы, женщины, ведь не морализируете зря. Ах, знаешь ли… мораль… Право же, это тема для спора между Нафтой и Сеттембрини. Она относится к области предметов чрезвычайно туманных. А живет ли человек ради себя или ради жизни, он сам не знает и никто не может знать точно и наверняка. Я хочу сказать, что границу тут установить трудно. Существует эгоистическая жертвенность и жертвенный эгоизм… Думаю, что дело здесь обстоит так же, как в любви. Я не могу хорошенько вдуматься в то, что ты говоришь о морали, и это, вероятно, аморально, но я прежде всего рад, что мы вот так сидим вместе, как сидели всего один-единственный раз, и потом больше не сидели, с тех пор как ты вернулась. И рад, что я могу сказать, как удивительно идут тебе эти манжеты вокруг кисти и этот тонкий шелк, спадающий с твоих плеч, с твоих плеч, которые я знаю…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
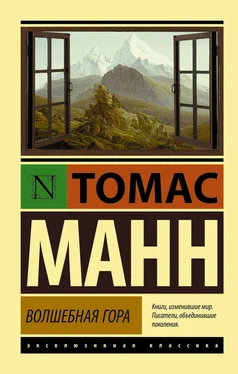

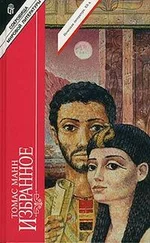




![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)