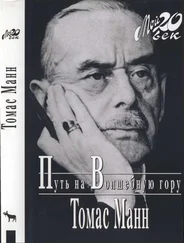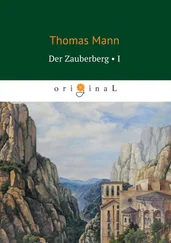За последнее время Ганс Касторп уже не путался и не сбивался, когда приходилось выкладывать то, что было на душе, не застревал посредине фразы. Он договаривал все до конца, понижал голос, соблюдал точку и продолжал говорить как настоящий мужчина, хотя все-таки краснел и немного боялся того критического молчания, которое последует за его словами, чтобы устыдить его. И господин Сеттембрини предоставил действовать этому молчанию, а потом сказал:
– Вы отрицаете, что охотитесь за парадоксами, а ведь вы отлично знаете, что мне в той же мере претит и ваша охота за тайнами. Делая из индивидуальности нечто таинственное, вы рискуете впасть в идолопоклонство. И тут вы поклоняетесь маске, видите мистику там, где на самом деле лишь мистификация, одна из тех обманчивых и пустых форм, с помощью которых демон физиогномики и телесности иногда надувает нас. Вам не приходилось вращаться в кругу актеров? Вы не видели эти головы мимов, в которых узнаешь черты Юлия Цезаря, Бетховена, Гете, а едва их счастливые обладатели откроют рот, – они оказываются самыми последними простаками…
– Хорошо, пусть это игра природы, – продолжал Ганс Касторп. – Но и не только игра природы, не только надувательство. Ведь если эти люди – актеры, у них же должен быть талант, а талант выше глупости и разумности, он сам – жизненная ценность. У мингера Пеперкорна, что ни говорите, талант есть, поэтому-то он и заткнул нас за пояс. Посадите в один угол господина Нафту, пусть прочтет лекцию о Григории Великом и о граде Божьем, это будет очень поучительно, и пусть в другом углу стоит Пеперкорн, со своим необычайным ртом и своими поднятыми складками на лбу, и пусть он говорит только свое «Бесспорно! Разрешите мне – кончено!» – и вы увидите, что люди соберутся вокруг Пеперкорна, а Нафта останется в полном одиночестве со всей своей разумностью и градом Божьим, хотя он выражается с такой определенностью, что человека до костей пробирает, как говорит Беренс.
– А вы постыдитесь такого преклонения перед успехом! – укорил его Сеттембрини. – Mundus vult decipi [236]. Я вовсе не требую, чтобы вокруг господина Нафты собирались люди. Он ужаснейший интриган. Но в этой воображаемой сцене, которую вы живописуете с неподобающим сочувствием, я склонен стать на его сторону.
Попробуйте презреть ясность, точность, логичность и по-человечески связную речь! Попробуйте презреть ее ради каких-то фокус-покусов, состоящих из намеков и шарлатанской имитации высоких чувств, и вот вы уже попали в лапы к дьяволу.
– Но, уверяю вас, он может говорить вполне связно, когда увлечется, – возразил Ганс Касторп. – Он на днях рассказывал мне о динамических лекарствах и азиатских ядовитых деревьях, и так интересно, что мне даже стало жутко… Интересное всегда вызывает некоторую жуть… Интересно это было не столько само по себе, а главным образом из-за его индивидуальности и ее воздействия: именно она придавала рассказу жуть и интерес.
– Ну, конечно, ваша слабость ко всякой азиатчине известна. И я действительно подобных чудес вам поставлять не могу, – возразил Сеттембрини с такой горечью, что Ганс Касторп поспешно за явил: разумеется, преимущества его бесед и наставлений лежат в совсем иной плоскости, и никому в голову не придет делать какие-то сравнения, это было бы несправедливо по отношению к обеим сторонам.
Сеттембрини продолжал:
– Во всяком случае, разрешите мне, инженер, сказать, что я просто восхищен вашей объективностью и вашим хладнокровием. Согласитесь, они уже приближаются к гротеску. И судя по тому, как сейчас обстоит дело… Ведь этот нефтяной идол отнял у вас вашу Беатриче – я называю вещи своими именами. А что делаете вы? Нет, это неслыханно.
– Вопрос темперамента, господин Сеттембрини. Вопрос особого пыла и воинственности крови. Конечно, вы, как южанин, обратились бы к помощи яда и кинжала, или действовали бы с принятой в свете страстной мужественностью и галантностью. То есть распетушились бы. Это было бы, бесспорно, очень мужественно, по-светски мужественно и галантно. Но у меня все это иначе. Я совсем не мужествен, то есть не вижу во всех мужчинах только самцов-соперников. Может быть, я вообще лишен мужественности, но, уж во всяком случае, не в том смысле, в каком, сам не знаю почему, назвал такое мужество «светским». И вот я спрашиваю себя, с моей рыбьей кровью, можно ли в чем-нибудь упрекнуть его. Причинил ли он мне зло сознательно? Но ведь обиды должны быть нанесены преднамеренно, иначе это не обиды. Что касается «причиненного зла», тут мне пришлось бы сводить счеты с ней . Но и на это я опять-таки не имею права, не имею вообще, а раз тут замешан Пеперкорн – тем более, ибо он, во-первых, яркая индивидуальность, а для женщины это, само по себе, уже значит немало, во-вторых, он человек не штатский, подобно мне, а скорей военный по складу характера, как мой бедный кузен, то есть: у него есть свой point d’honneur, свой вопрос чести, особый пунктик, и это – чувство, жизнь… Я болтаю всякий вздор, но лучше нести чепуху и при этом высказать хоть отчасти трудновыразимую мысль, чем изрекать лишь безупречные банальности, – может быть, это тоже какая-то военная черта в моем характере, если смею так выразиться…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
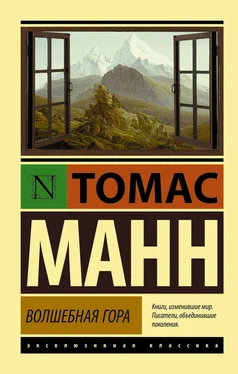

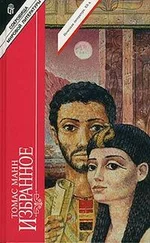




![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)