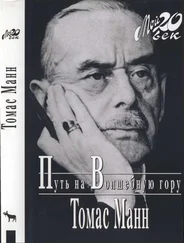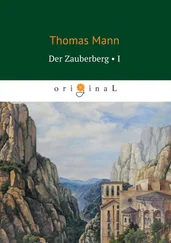Может быть, существовали исключения, может быть, некоторые больные и заполняли часы обязательного лежания серьезной умственной работой и плодотворно изучали какую-либо науку, хотя бы для того, чтобы не терять связи с жизнью на равнине или придать ходу времени некоторую утяжеленность и глубинность, чтобы оно не оставалось чистым временем, то есть просто ничем. Может быть, кроме Сеттембрини, с его жаждой искоренять страдания, и честного Иоахима, с его учебниками русского языка, были и еще пациенты в том же роде, если не среди посетителей столовой, что казалось действительно невероятным, то среди лежачих больных и «морибундусов» – Ганс Касторп готов был это допустить. Что касается лично его, то «Ocean steamships» уже ничего нового ему дать не могли, поэтому, когда он просил прислать из дому все необходимое для зимнего сезона, он выписал и некоторые книги по инженерным наукам и по своей прямой специальности – технике кораблестроения. Однако эти труды лежали забытые – за счет других, связанных с совсем другой областью, но предметом которых молодой Ганс Касторп глубоко заинтересовался. Это были книги по анатомии, физиологии и биологии на разных языках – немецком, французском, английском; однажды их доставил в санаторий книжный магазин курорта, – видимо, Ганс Касторп заказал их, и даже на свой страх и риск, молчком, во время прогулки, которую случайно совершил вниз, в поселок, без Иоахима (он был как раз назначен не то на инъекцию, не то на взвешивание). Поэтому Иоахим очень удивился, увидев эти книги в руках у двоюродного брата. Они стоили дорого – научные труды вообще стоят дорого, – цена еще была проставлена на внутренней стороне обложки или на суперобложках. Он спросил, почему Ганс Касторп, если уж он заинтересовался такими книгами, не попросил у гофрата – у того, наверно, большой выбор, и он охотно дал бы их почитать. Но Ганс Касторп возразил, что хочет иметь собственные, ведь и читаешь совсем по-другому, когда книга твоя; потом он любит делать пометки и подчеркивать карандашом. С тех пор Иоахим слышал, как Ганс Касторп, лежа на своем балконе, часами разрезает сброшюрованные листы.
Книги оказались претяжелыми, их было трудно держать в руках, и Ганс Касторп ставил их стоймя, так что они упирались нижним краем ему в грудь или в живот. Они давили, но он готов был терпеть; приоткрыв рот, водил он глазами сверху вниз по ученым страницам, озаренным розоватым светом прикрытой абажуром настольной лампочки, хотя она была почти не нужной – так ярко светила луна; во время чтения голова его опускалась до тех пор, пока подбородок не упирался в грудь, и тогда читающий останавливался и, прежде чем снова поднять голову и глаза к началу следующей страницы, медлил несколько мгновений – не то в полузадумчивой дремоте, не то в полудремотном раздумье. Он читал, он пытался проникнуть в глубь открывавшихся перед ним вопросов, а над хрустально сверкавшей высокогорной долиной месяц совершал свой размеренный путь, – читал об организованной материи, о свойствах протоплазмы, этой чувствительной субстанции, которая удерживается в своеобразном неустойчивом состоянии бытия между развитием и распадом, о ее способности придавать многообразие первичным, но существующим до сих пор основным формам вещества, читал с тревожным интересом о жизни и ее святой и нечистой тайне.
Что же такое жизнь? Мы этого не знаем. Поскольку она жизнь, она осознает себя, но не знает, что она такое. Сознание, как чувствительность к раздражениям, бесспорно, в какой-то мере уже пробудилось на самых низших и простейших ее этапах; но невозможно было связать первое появление осознанных процессов с каким-либо определенным моментом всеобщей или индивидуальной истории сознания, поставить, например, появление сознания в связь с возникновением какой-либо нервной системы. Низшие формы животных лишены нервной системы, а тем более – головного мозга, однако никто не решился бы отрицать их способности воспринимать раздражения. Кроме того, можно было приглушить жизнь, как таковую, а не только деятельность создаваемых ею чувствительных к раздражениям органов, и не только нервы. Можно было на время убить чувствительность всякой одаренной жизнью материи как в мире растительном, так и в мире животном, подвергнуть яички и семенные нити действию наркоза – хлороформа, хлоралгидрата, морфия. Итак, сознание оказывалось просто функцией организованной живой материи, и при усилении своей активности эта функция обращалась против ее собственного носителя – становилась стремлением исследовать и объяснить породивший ее феномен, обнадеживающим и безнадежным стремлением всего живого к самопознанию, к тому, чтобы природа рылась в самой себе – в конечном счете, совершенно тщетно, так как природа не может претвориться в познание, жизнь сама не может уловить последние глубины живого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
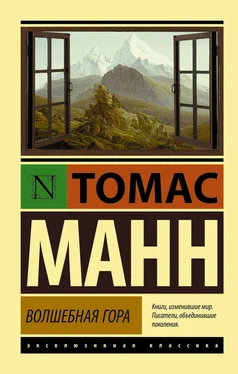

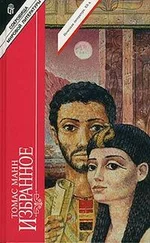




![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)