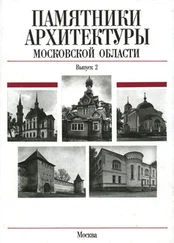Оторвавшись от созерцания тьмы за окном, Теофил Стериу лениво повернул круглую голову на толстой шее.
В апатичном взгляде вспыхнула на миг насмешливая, колкая искорка — засветился живой и проницательный ум, неожиданный в этой неповоротливой туше. Засветился и погас. Теофил Стериу тягуче проговорил:
— Не спрашивай, все равно не отвечу! Не понимаю ни твоего языка, ни вопросов… Я не знаю, что такое наблюдения над материалом. Я не социолог, не энтомолог, не психиатр, не клиницист. Мне не нужно ни наблюдать, ни собирать документы, я и книг-то не читаю. Если ты хоть раз за всю жизнь в течение года пристально приглядывался к тому, что происходит в маленьком сельце из трех тысяч душ, — ты знаешь все, и учиться тебе больше нечему. Разнообразие драм и страстей человеческих ограниченно. Ты видел любовь и ненависть, благодарность и страдание. И это все, все, все! Поэтому не приставай ко мне с вопросами. Побереги их для слушателей своих лекций… Твои вопросы и недоумения напоминают мне норвежского путешественника, описанного Гезом де Бальзаком в тысяча шестьсот тридцатом году: попав впервые в теплые страны, он не осмеливался подойти к кусту роз, недоумевая, как могут существовать растения, у которых вместо цветов — пламя. Вот так. А теперь дай мне поспать!..
Утомленный столь мучительным напряжением сил, Теофил Стериу поправил на шее платок, протяжно зевнул, похлопывая ладонью по губам, откинул голову на спинку дивана и мгновенно захрапел.
Лектор, однако, не признал себя побежденным. Повернувшись к художнику, он ухватил его за пуговицу пиджака и продолжал:
— А теперь ты скажи, неужели и впрямь не…
— Послушай, братец! — внезапно оборвал тот лектора громовым голосом, в котором за шуткой слышалась угроза. — Если ты думаешь уморить и меня, то жестоко ошибаешься. Смотри! Лишив жизни одного лектора, я спасу от мук целый свет, сотни и сотни невинных жертв твоего словоблудия, отрепетированного дома перед зеркалом. Со мной, бесчестный базарный фокусник, у тебя ничего не выйдет. Раз — и тебя нет.
И он вместо пистолета наставил на лектора чубук своей трубки, целясь прямо в аккуратно подстриженный висок развратителя.
— С вами просто невозможно! — капитулировал лектор. — Ладно! Сдаюсь! Что вы за люди, господи! Никакой любви к идее. Ни малейшего интереса к проблемам, волнующим мир. Как он умудряется писать книги? Как ты малюешь свои полотна?
— Очень просто. Он садится за стол и пишет. Я присаживаюсь к мольберту и малюю. Ничего нет проще, мой дорогой.
И, помолчав, добавил вместо заключения:
— Чертовски хочется пива. Давай поглядим, может, вагон-ресторан еще открыт?
Лектор заколебался. Художник, в свой черед ухватив его за пуговицу, потащил за собой.
И Тудор Стоенеску-Стоян остался один на один с монументальным тюфяком от литературы, который, обмотав шею платком, сопел, словно сердитый Биби-Ханум с рекламных плакатов торговцев мылом. Горькая улыбка резко обозначила морщины в уголках губ. Вот, стало быть, каковы знаменитости, превозносимые толпой? Только-то и могут сказать? И, главное, сказать в такой манере? Обращаясь к каждому из них на «ты», он изничтожал их воображаемым монологом, упрекал, негодовал, призывал вспомнить о высоком чувстве ответственности, которое налагает бремя славы. А тучный романист тем временем чмокал во сне жирными губами, словно младенец, сосущий грудь.
— Эдипов комплекс! — громогласно поставил диагноз Тудор Стоенеску-Стоян, который только что прочел какую-то популярную фрейдистскую брошюрку.
— Пардон?
Теофил Стериу на миллиметр разлепил сонные веки. Тудор Стоенеску-Стоян покраснел как рак, моля небеса, чтобы пол вагона разверзся и он провалился на рельсы. Но романист устроился поудобнее и продолжал спать, причмокивая во сне.
От станции, где он утром сделал пересадку, весь остальной путь Тудор Стоенеску-Стоян просидел у окошка. У него ныли кости, воротничок превратился в тряпку, а щеки покрылись жирным налетом сажи.
Бывшие его соседи по скорому поезду продолжали свой путь к границе. А Тудор Стоенеску-Стоян просидел остаток ночи на жесткой скамье зала ожидания под чадящей лампой, от которой у него обметало сажей глаза.
Добрый друг! Сердечное приглашение! Немедленный ответ.
С какой, однако, улиточьей осторожностью движется этот крохотный поезд с игрушечным паровозиком!
Кажется, будто катится он не вперед, а назад, в прошлое.
Паровозик придавлен капюшоном трубы. Сам он словно сошел с картинки из учебника физики, изображавшей паровую машину Стефенсона. Вагоны сохранили оригинальный облик и неудобства дилижанса. Они поскрипывают. Ходят ходуном на поворотах. Вздыхают при торможении. Стонут и жалуются на муки, какие приходится терпеть старому заржавевшему железу. Машинист здоровается с друзьями — путевыми рабочими и обходчиками, интересуется, опоросилась ли свинья и будут ли они в четверг в городе. Начальник поезда перевозит со станции на станцию записочки, оплетенные бутылки с вином, корзины с яйцами или фруктами и цыплят, связанных за ноги на манер букетов из перьев и гребешков.
Читать дальше
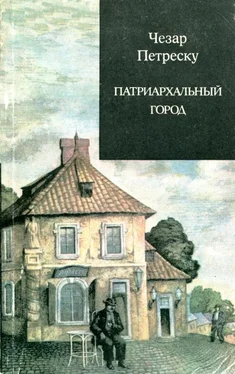


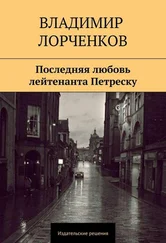





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)