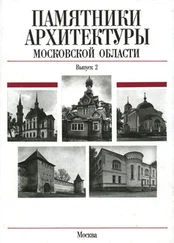Звонил опять Санди:
— Алло? Это ты, Ади?.. Держу тебя в курсе, как договорились!.. Повидался с Тодорицэ. Он безутешен. Алло? Ты плохо слышишь? Я говорю — он безутешен!.. Бе-зу-те-шен! Да-да! А это похуже бурных проявлений горя… Это медленная мука. Ты знаешь — это по своей Исабеле… Вот-вот! Та подавленная боль, которая с тем большей силой прорвется впоследствии… Алло! Мне показалось, ты смеешься, Ади… Нет? Ну, конечно, нет: это же нелепо. Тут не над чем смеяться… Алло! Спрашиваешь, придет ли он? Считаешь, что после случившегося не придет? Напротив… Я уговорил его. Настоял; я говорил и от твоего имени; передал, что ты настаиваешь. В конце концов мне удалось его убедить… Так что в половине второго садимся за стол. Не забудь, о чем я тебя просил, дорогая Ади. Как можно пообходительнее с бедным парнем… До свидания, Ади.
— До свиданья, Санди.
Трубка из никеля и эбонита легла на свое место.
Не над чем смеяться? Адина охотно бы посмеялась, если бы еще могла смеяться.
Он безутешен! Бе-зу-те-шен! Тудор Стоенеску-Икс, друг Теофила Стериу, друг незнакомый — и все-таки безутешный! В фарсе, в водевиле, в гротескной мелодраме этого бы, несомненно, с избытком хватило, чтобы вызвать взрыв хохота. Но она уже не могла смеяться. Кроме того, к посмертном письме Теофила Стериу было еще что-то, не терпевшее отлагательств и не оставлявшее времени раздумывать об этом необыкновенном открытии.
Это что-то была великая радость. Радость, ради которой и писалось это письмо, — возможно, за несколько часов до того, как Теофил Стериу оцепенел, выронив перо на середине страницы, не дописав строки; радость, ради которой она долгие месяцы ждала этого письма, пока не погасла последняя искра надежды.
Адина Бугуш взглянула на часы.
Одиннадцатый час. Еще есть время.
Она позвонила и распорядилась насчет обеда, к которому должен был явиться за утешением друг Теофила Стериу Тудор Стоенеску-Икс, он же Тодорицэ, приятель бедняги Санди. Послала Иона за пролеткой. Надела шляпу, не поглядев в зеркало, — что стало с ее лицом после стольких противоречивых переживаний. Спрятала письмо в сумочку, потом достала снова и перечла часть, касающуюся Исабелы. Скользнула глазами по газетам, присланным Санди. Грубые фотографии в черных рамках. Бухарестские статьи, писанные в спешке, на уголке редакционного стола в последний момент перед сдачей в набор провинциальных выпусков. Библиографические данные, наспех надерганные из первой попавшейся под руку энциклопедии или календаря… Наконец, явился Ион с пролеткой, и Адина Бугуш повезла добрую весть, присланную умершим, в дом, где не ждали ни ее, ни добрых вестей ни от живых, ни от мертвых.
Пролетка еле тащилась по Большой улице, чересчур оживленной по случаю весны и ярмарочного дня. Двигаться быстрей не было возможности, ехать переулками было бы еще труднее из-за отпряженных телег, стоящих подвод и выпряженных быков, мирно и тупо пережевывавших свою охапку сена, лошадей, хрупавших овсом из привязанных к мордам торб.
Был большой базарный день, знаменитая весенняя ярмарка, которую превосходила лишь осенняя, в августе — с большими качелями и представлением, с колесом счастья и цирком.
Осенью ярмарка располагается на равнине у подножия Кэлимана по соседству с кладбищем. А сейчас торговля шла везде и как попало. Город запрудили крестьяне, которые приехали кто купить, кто продать. И теперь, в своих белых портах, они неспешно расхаживали по улицам, не обращая внимания на клаксоны автомобилей и окрики отчаявшихся извозчиков. Торговцы, торчавшие у дверей своих лавок, зазывали их внутрь, предлагая кожи для постолов, обувь, ситец, глыбы соли, гвозди, шляпы, рулоны грубой небеленой шерстяной ткани, ремешки для постолов, плужные цепи и оконное стекло, чугунные горшки и жестяные ведра. Хозяева расхваливали товар, торговались, клялись, били себя кулаком в грудь, бросались вослед какой-нибудь суровой хозяйке и тащили ее назад, обещая сбавить цену.
Для этих людей ничего печального и непоправимого не произошло, хотя Теофил Стериу был самым чутким защитником незаметных судеб и почти единственным из современников, кто мог, словно добрый и заботливый великан, склониться над человеческим муравейником, пытаясь с тщательностью энтомолога уяснить себе образ жизни и повадки людей, их драмы и страдания, скрытый механизм инстинктов, надежды и несчастья, что заложены в каждой из судеб. И этого друга, который увековечил их жизнь и страдания, они потеряли навсегда. Они не знали его имени. Не знали, что он жил для них, писал о них и умер затворником в своей келье, остановившись на середине страницы, не дописав строки.
Читать дальше
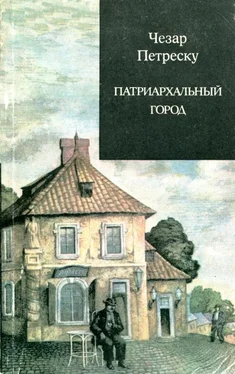


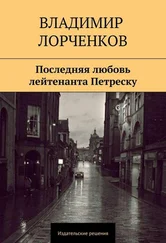





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)