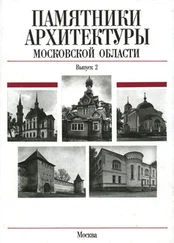— Как вы можете такое говорить?
— Вы просили, чтобы я откровенно высказал свое мнение. Вот мое откровенное мнение.
Горько разочарованная, Адина положила тетради на стол из никеля и стекла.
— А я-то хотела другого. Совершенно другого. Я-то надеялась, что вы будете в восхищении, попросите у меня разрешения послать их Теофилу Стериу или еще кому-нибудь из ваших бухарестских друзей… Захотите пристроить их в каком-нибудь журнале. Найдете издателя. Для Исабелы это было бы утешением… А может — и спасением…
— Литература не богадельня, а издатели не любят заниматься благотворительностью!
Наступило тяжелое молчание.
Тудор Стоенеску-Стоян пододвинул неудобный, без спинки, стул поближе к столу. Спросил с вкрадчивой улыбкой:
— Значит, вам мой до грубости откровенный ответ неприятен?
— При чем тут я? Речь не обо мне. Не о моем удовольствии или неудовольствии.
— А для меня это имеет значение… — заявил Тудор Стоенеску-Стоян, склонив голову, чтобы поймать взгляд Адины, прикованный к отвергнутым тетрадям. — Довольно об этих тетрадях… Здесь, совсем рядом есть, быть может, кое-что поинтереснее истории с эмирами и калифами. Вы меня слышите?.. Это-то и имеет для меня значение… Я бы не простил себе, если бы огорчил самую красивую и самую недоступную женщину в городе.
Адина взглянула на него сверкающим от негодования взглядом:
— Я для вас, если не ошибаюсь, — жена вашего старого друга Санду Бугуша. В этот дом вы явились на правах друга Санди! Друга и только.
— К несчастью! — вздохнул Тудор Стоенеску-Стоян.
Говоря это, он, вцепившись пальцами в стеклянный столик, откинулся назад и взглядом раздевал жену своего старого друга Санду Бугуша.
Он сознавал, что, поддаваясь низкому соблазну, совершает непоправимое. Но не мог ему не поддаться. А может, и сам он — уже не то безобидное и смиренное существо, которое полгода назад отправлялось сюда поездом с Северного вокзала. Что-то смутное и злое дозревало в его сознании. Машинальные рисунки пером на промокашке. Завитки волос и извивающиеся змеи; огромные глаза, обведенные темными кругами; голова Медузы Горгоны. Так вот что это было! Стократно повторенная голова Медузы! А между тем жена его друга сидит тут, рядом, влекущая, одинокая, не понятая собственным мужем, — человеком с обвислыми тюленьими усами, целыми днями занятого беготней по судебным делам, бесплатно защищающего голодранцев из предместий и деревень; их беды он принимает близко к сердцу, но где ему понять, чего хочет, что нужно этой женщине, обуреваемой страстями. А он, Тудор Стоенеску-Стоян, сотни раз вызывал в воображении ее лицо, вызывал ее и взывал к ней, и это безотчетное влечение, и этот зов шли из глубин, неподвластных рассудку! Так неужели при таких обстоятельствах любить и желать жену друга — низость? Нет, это перст судьбы, ведь сам этот друг виноват, если пренебрегает таким великолепным творением природы, созданным для любви и страсти; бросает его на растерзание этому мерзкому городу, поскольку у него самого, видите ли, дела поважнее — сколотить капитал для выкупа родового имения или — еще того чище — засадить лесами Кэлиманов холм! Тудор Стоенеску-Стоян расправился с остатками угрызений совести и заранее отпустил себе все грехи.
— Да, к несчастью, вы жена Санди! — повторил он. — К несчастью для вас и к несчастью для меня…
— Что вы хотите этим сказать? — спросила Адина, подымаясь.
Тудор Стоенеску-Стоян тоже встал, не отрывая глаз от грудей, натягивавших шелк кимоно. Он ответил:
— Именно то, о чем вы и сами прекрасно знаете. То, что не можете не понять, потому что это понятно само собой.
От стремительного притока крови губы его вздрогнули, перехватило дыхание, перед глазами поплыли круги. Он потянулся рукой, пытаясь коснуться пальцев Адины:
— То, что ты, Адина, по-моему, давно поняла!
Отдернув руку, Адина отступила на несколько шагов поближе к широкому окну.
Свистящим шепотом проговорила:
— Да как вы смеете? Как вы могли себе позволить? Я ждала чего угодно… Но такого… Такого!..
— Любовь не признает законов, Адина!.. — продолжал, приближаясь, Тудор Стоенеску-Стоян. — И уж тем более предрассудков. Мы выше толпы. Такой я всегда считал тебя. И таким считала меня ты!
Он был уже совсем близко. Его ладони тянулись к ее груди.
Увернувшись, Адина скользнула вдоль стены и положила палец на кнопку звонка:
— Еще шаг — и я позвоню! Сюда тотчас сбегутся слуги.
С поднятыми, сложенными горстью ладонями, Тудор Стоенеску-Стоян замер у окна. За неимением платка, отер со лба пот тыльной стороной горсти.
Читать дальше
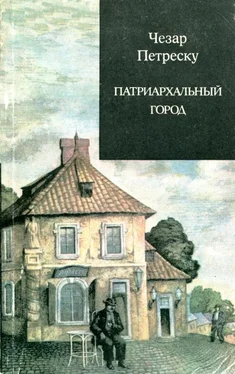


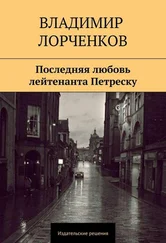





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)