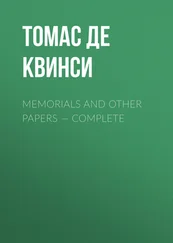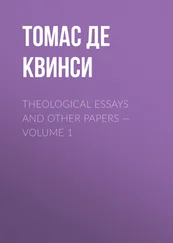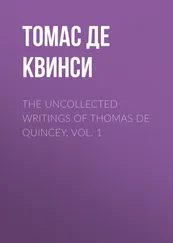1. По мере того как росла художественная сила зрения, в моем мозгу возникало согласие между состоянием бдения и сна, а именно: видения, которые я вызывал и сознательно чертил на фоне тьмы, легко переселялись и в сны мои; даже страшно мне было пользоваться этой новою способностью, ибо, подобно Мидасу, обращавшему все в золото, которое, однако, разрушало его надежды и обманывало его желания, я, едва помыслив в темноте о чем-то доступном зрению, тотчас обретал его как видимый призрак; и с той же неизбежностью видения эти, единожды наметившись бледными очертаниями, прояснялись, словно бы симпатические чернила под действием химии моих грез, и истязали сердце невыносимой своей пышностью.
2. Все эти перемены в моих сновидениях сопровождались такой глубокой тревогою и мрачной меланхолией, какую словами не выразить. Всякую ночь, казалось, сходил я (и сие не метафора) в пропасти и темные бездны, в глубины, что глубже всякой глубины, сходил без всякой надежды возвратиться. Ощущения, будто я возвратился, у меня не было, даже когда я просыпался. Однако не стану на этом задерживаться; вызванное роскошным зрелищем печальное состояние постепенно доходило до мрачного отчаяния, перед которым слово бессильно.
3. Чувство пространства, а в конце концов и чувство времени были сильно нарушены. Строения, пейзажи etc. представлялись мне столь безмерными, что глаз мой отказывался их воспринимать. Пространство разрасталось и распространялось до бесконечности неизъяснимой. Сие, однако, беспокоило меня гораздо меньше, чем неимоверное растяжение времени: порою мне казалось, что в единую ночь жил я до семидесяти, а то и до ста лет; более того, иногда у меня было чувство, будто за это время миновало тысячелетие или, во всяком случае, срок за пределами человеческого опыта.
4. Мельчайшие события детства, позабытые сценки более поздних лет нередко оживали; нельзя сказать, чтоб я помнил их, ибо если бы мне рассказали о них в часы бодрствования, я бы не узнал в них частицу прошлого опыта. Но когда они представали предо мною в снах, подобных прозрению, и сопровождались множеством мимолетных обстоятельств и связанных с ними чувств, я узнавал их мгновенно. Раз я слышал от близкой родственницы рассказ о том, как она, ребенком, упала в реку: находясь на краю гибели (к счастью, должная помощь была оказана ей вовремя), она увидела в единый миг, словно в зеркале, всю жизнь свою в мельчайших как бы остановившихся подробностях, и у нее внезапно возникла способность понимать как целое, так и каждую его часть. Этому я могу поверить, исходя из собственного опыта с опиумом, и дважды встречал подобные утверждения в новейших книгах, где они сопровождались замечанием, правдивость коего для меня несомненна: оно гласит, что страшная книга Судного дня в Священном Писании есть не что иное, как сознание каждого из нас. В одном, по крайней мере, я уверен: ум лишен способности забывать; тысячи случайных событий могут и будут создавать пелену между нашим сознанием и тайными письменами памяти, и тысячи таких же событий в свою очередь могут разрывать ту пелену, но, так или иначе, письмена те вечны; они подобны звездам, которые, казалось бы, скрываются перед обычным светом дня, однако мы знаем: свет - лишь покров, наброшенный на светила ночные, и ждут они, чтоб проявиться вновь, покуда затмевающий их день не сокроется сам.
Упомянув сии четыре пункта, свидетельствующие о том, как достопамятно изменились мои сны с того времени, когда я был еще здоров, приведу пример, поясняющий пункт первый; затем я расскажу и о любых других, которые запомнил, придерживаясь либо хронологической последовательности событий, либо такой, которая придаст им больший интерес в глазах читателя.
В ранней юности был я страстным поклонником Ливия {13}, да и в последующие годы перечитывал его для развлечения, ибо, признаться, и по стилю, и по содержанию предпочитаю его сочинения всем прочим римским историкам. Самым торжественным и пугающим звучанием наполнены для меня два слова, кои так часто встречаются у Ливия и столь глубоко выражают величие народа римского, то - Consul Romanus {Римский консул (лат.).}; эти слова обретали особенную силу, когда речь шла о военном поприще правителя. Я хочу лишь сказать, что король, султан, регент и прочие титулы, принадлежащие тем, кто воплощает в своем лице совокупную мощь великого народа, не вызывали у меня такого преклонения. Хотя я не очень начитан в истории, но изучил подробно и критически один период английской истории, а именно период Парламентской войны в Англии, ибо привлекало меня нравственное величие некоторых ее деятелей и многочисленные интересные воспоминания, пережившие это беспокойное время. Легкое чтение из римской и английской истории, первоначально служившее для меня предметом размышлений, стало впоследствии предметом моих снов. Часто во время бессонницы я рисовал на фоне темноты некий эскиз будущей картины, а затем, во сне, предо мною появлялись сонмы дам, проходящих в праздничном танце. И некто (быть может, то был я сам) рек: "То женщины времен печальных Карла I {14}. То дочери и жены тех, что встречались мирно, сидели за одним столом и были связаны узами крови или брака; и все ж с известного дня августа 1642 года они уже не улыбались друг другу и лишь на поле брани встречались - и у Марстон-Мура {15}, у Ньюбери {16}, у Нэйсби {17} разрубали жестокою саблей узы любви, смывая кровью память старой дружбы". Дамы танцевали и были так же прелестны, как дамы при дворе Георга IV {18}. Но даже во сне я не забывал: сии красавицы уж лежат в могиле без малого две сотни лет. Затем это пышное зрелище внезапно таяло и спустя мгновение я слышал потрясающий душу возглас "Consul Romanus!" - и тотчас "величаво входили" Павел {19} или Марий {20} в роскошном военном облачении, окруженные толпой центурионов, с пунцовой туникой на копье и сопровождаемые возгласами Alalagmos {Воинственный клич (др.-греч.).} римских легионов.
Читать дальше