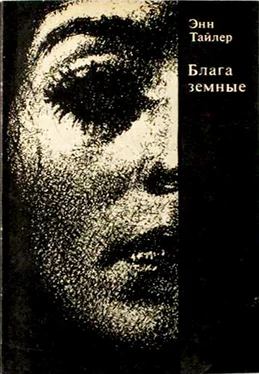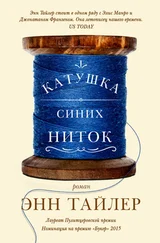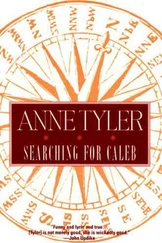А Сол сидел возле кровати и держал мои руки в своих. Он смотрел не на меня, а на мои посиневшие ногти. И часами не произносил ни слова. Как он мог молчать? Он же проповедник.
— Только не говори, что на то была воля божья, — сказала я.
— И не собирался.
— Вот как. — Я была разочаровала. — Воля божья здесь ни при чем. Это биология.
— Пусть будет по-твоему.
— Все зависело от моего организма.
— Пусть будет по-твоему.
Я вглядывалась в его лицо. Две глубокие складки оттягивали вниз уголки рта, складки эти наверняка появились давным-давно. Волосы на макушке поредели, читая, он теперь иногда надевал очки. Ему было тридцать два года, но выглядел он на все сорок пять. По чему же это? Может, из-за меня? Я расплакалась.
— Сол, — сказала я. — Думаешь, мой организм поступил так сознательно?
— Не понимаю.
— Может, это случилось потому, что ребенок помешал бы мне уйти?
— Уйти? — повторил Сол.
— Уйти от тебя.
— Ну нет, конечно.
— А я все время думаю об этом, понимаешь. Я так боюсь, что… Порой мне кажется, мы так мучаем друг друга. Вечно дергаемся, раздражаемся по пустякам…
И вот иной раз, когда мы едем в пикапе, в этом ржавом, скрипучем пикапе, мама занимает две трети сиденья, а Селинда ерзает у меня на коленях, и я пилю тебя за что-то, не имеющее для меня никакого значения, будто только и жду, когда у тебя наконец лопнет терпение, а тебе все осточертело и ты ушел в себя, — тогда я начинаю думать: «Какая же мы несчастливая семья. Ну а что тут удивительного? Это совершенно естественно. Такова уж моя судьба, я несчастливая, всю жизнь жила в несчастливых семьях. Честно говоря, ничего другого я и не ждала».
Интересно, станет ли Сол спорить? Но он не возражал. Только держал мои руки в своих ладонях и не поднимал головы. Я сразу же пожалела, что сказала ему это, но со мной всегда так: вечно мне хочется, повернуть вспять, начать все сначала. Но это безнадежно. И я продолжала:
— …Так вот, что, если мой организм решил: «К чему затягивать — этот младенец нам ни к чему; ребенок только задержит ее уход на целых семь лет. Единственное, что требуется, — это…»
— Шарлотта, ты никогда не уйдешь от меня, — сказал Сол.
— Послушай, у меня есть аккредитив и пара прочных туфель. Я…
— Но ты же любишь меня. Я знаю, что любишь.
Я посмотрела на него, на большие серьезные глаза, на упрямо сжатые губы. Почему он всегда говорил именно так? И тогда, в мотеле «Голубая луна», тоже. Ведь он должен бы говорить, что это он меня любит, разве нет?
Но он сказал: «Я уверен, что ты меня любишь, Шарлотта».
И еще: почему все это так действовало на меня?
Однажды, недель через шесть, когда я уже была на ногах, Сол появился днем на кухне, держа в одной руке младенца, а в другой — голубой полиэтиленовый мешок с пеленками. Это было как гром среди ясного неба. Младенец оказался крупный, он прожил на свете уже несколько месяцев. Круглолицый, плотный мальчуган с упрямой, серьезной мордашкой.
— Вот, — Сол протянул его мне.
— Что это? — спросила я, но мальчика не взяла.
— Младенец, что же еще.
— Мне нельзя поднимать тяжести, — сказала я, но не отступила.
Сол слегка приподнял малыша. Он любил детей, но так и не научился правильно их держать — распашонка собралась у мальчика под мышками, и он неловко наклонился вбок, насупившись из-под светлых пряден волос, словно пухленький белокурый Наполеон.
— Ну, возьми же его. Не такой уж он тяжелый, — сказал Сол.
— Но я… у меня холодные руки.
— Знаешь что, Шарлотта? Оставим его ненадолго у себя.
— Но, Сол… — начала я и умолкла. Думаете, я не ожидала этого? Ничто меня больше не удивляло. Все казалось проходящим, и события проплывали мимо, точно водоросли, едва коснувшись моей щеки. Я отчетливо видела их издалека: как они приближаются, а потом снова исчезают. — Благодарю за заботу, но это невозможно. — Я принялась невозмутимо расставлять тарелки.
— У него нет отца, Шарлотта, мать сбежала и оставила его на руках у бабушки, а сегодня утром бабушку нашли мертвой. Я подумал, ты захочешь его взять.
— А потом вернется его родная мать; мы можем потерять его в любую минуту, — сказала я и стала складывать салфетки.
— В любую минуту мы можем потерять кого угодно. Даже Селинду.
— Ты знаешь, о чем я говорю, — сказала я. — Он не принадлежит нам.
— Никто не принадлежит нам, — отозвался Сол.
Наконец я сложила, последнюю салфетку, согрела под передником руки и вернулась к Солу. Утешало сознание, что выбора нет. Все уже было решено за меня. Даже ребенок и тот, казалось, чувствовал это: подавшись вперед, словно ожидая меня все это время, он камнем упал в мои протянутые руки.
Читать дальше