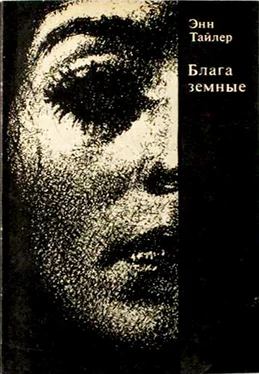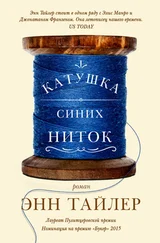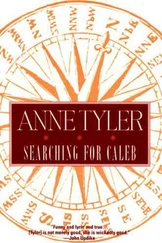В те первые годы у меня было много иллюзий. Я надеялась, что в один прекрасный день он вдруг откажется от своей веры и займется чем-нибудь другим. Примкнет, например, к банде мотоциклистов. А почему бы и нет? Мы бы разъезжали с ним повсюду. Селинда и я — позади. Я бы держала его за талию, прижимаясь щекой к его черной спине.
Черной.
Вот именно, это уже стало его сутью: даже на мотоцикле он сидел бы в поношенном черном костюме, и при нем всегда была бы Библия. Нет, он так и останется на всю жизнь проповедником. Но если даже все будет иначе, не уверена, что для меня это что-нибудь изменит.
Сол нередко приглашал к нам на воскресный обед разных бездомных людей, прихожан со Скамьи Кающихся. Иногда они так и оставались в нашем доме. Так, на втором этаже у нас жила пожилая дама, мисс Фезер, — ее выдворили из квартиры весной 1963 года, и она поселилась у нас до тех пор, пока не найдет себе другого жилья. Она так и не нашла его. И по-моему, не найдет никогда. У нас останавливались солдаты, бродяги, коммивояжеры, проезжие баптисты, тоскующие по богослужениям, наслаждавшиеся моими блинами из гречневой муки. Однажды в воскресенье к Скамье Кающихся подошел бородатый человек в рабочей одежде, прихожане как раз пели гимн «Я такой, как есть». Сол прервал пение и спустился с кафедры. Положил руки на плечи этого, человека. Потом обнял его, прижал к груди его голову с темными блестящими волосами голову… ну конечно же! Голову Эмори. Лайнуса Эмори, того самого Лайнуса, который заболел нервным расстройством и после смерти своей тети вернулся назад. Всегда подавленный, он от встречи этой светился как тончайшая фарфоровая чашка, поднесенная к пламени свечи. Мы повели его домой обедать. Он сидел за столом и смотрел на нас, вглядывался в лицо Селинды, жадно вслушивался в каждое слово, точно произносил его вместе с нами. Даже мама, даже пожилая мисс Фезер, предлагавшая ему домашнее печенье, вызывали блеск в его в глазах. Он так счастлив снова очутиться дома, сказал Лайнус. Потом поднялся наверх и занял одну из старых кроватей Альберты, а свои пожитки, вынутые из дешевого чемодана, разложил в комоде.
Вы следите за развитием событий? Теперь нас стало семеро, не считая временных постояльцев. Эймос все еще находился в Айове, кажется преподавал там музыку, Альберта жила где-то в Калифорнии. Все принадлежавшее ее дому мы взяли к себе. Ее кровати, шляпы, ее сыновья находились под нашей крышей, и окна ее дома смотрели в нашу сторону. Даже мама посмуглела, а мисс Фезер усвоила гордую осанку семейства Эмори. И личико Селинды стало такое ангельское, какое бывает на портретах в медальонах.
— Ты заметил, — спросила я Сола, — сколько теперь в нашем доме представителей семейства Эмори?
В ответ он только кивнул, не поднимая головы от своего календаря. Наверняка справлялся, когда предстоят очередные похороны или встреча молодежной группы.
— Я всегда мечтал, чтобы моим братьям было куда возвратиться, — сказал он.
Вот, оказывается, о чем он всегда мечтал.
Теперь мне все стало ясно. Наконец-то я его поняла: он был просто одинокий солдат, тоскующий по дому, жене, семье, вере. Случай весьма распространенный. На любой Скамье Кающихся найдется такой человек.
— Ты просто ищешь возможности уйти от одиночества, — сказала я.
— Такой возможности не существует, — отозвался Сол. Захлопнул календарь и посмотрел через комнату в темный коридор. И меня снова охватило сомнение: нет, не понимаю я его. Каков он был — я пыталась понять это все годы, что мы жили вместе, и сегодня опять не знаю, какой же он на самом деле. Наверное, так и буду отставать всю жизнь.
— Ну, а эти… расходы! Как мы прокормим их всех? — крикнула я, чтобы не поддаться ему. Перед моими глазами были медные тарелочки для пожертвований — единственный источник его дохода; грошовая фотостудия и радиомастерская едва покрывали карточные долги Джулиана, которые то уменьшались, и разрастались, как живое существо, в зависимости от приступов депрессии.
— Бог поможет, — сказал Сол. И ушел в молитвенный дом.
Надежда покинула меня. И, чтобы избавиться от лишних переживаний, я растормозилась, немного оторвалась от земли и стала смотреть на вещи с мягким юмором, который щекотал в носу, как будто я собиралась чихнуть. Скоро юмор вошел в привычку, я не могла расстаться с ним, если бы и захотела. Окружающий мир начал казаться мне… как бы это сказать… непостоянным. Стало ясно: у меня созревает решение уехать. Конечно, оставаться с ним дальше было невозможно. Теперь в тайном отделении кошелька при мне всегда был аккредитив на сто долларов. Я купила себе пару крепких туфель. Я не собиралась брать с собой ничего, кроме Селинды — мой багаж, любимый и обременительный. Когда же подует попутный ветер, который унесет нас с собой?
Читать дальше