Снова и снова мы слышим наш номер. Он может кричать долго, в лазаретах и воронках его не услышат.
Еще раз:
– Вторая рота, ко мне!
Потом тише:
– Больше никого из второй роты? – Он умолкает, потом слегка хрипло спрашивает: – Это все? – И командует: – Рассчитайсь!
Серое утро, на позиции мы уходили еще летом, и было нас сто пятьдесят человек. Сейчас нам зябко, осень, шуршат листья, голоса устало роняют:
– Первый… второй… третий… четвертый… – На тридцать втором они умолкают. Молчание длится долго, пока не раздается вопрос:
– Еще кто-нибудь есть? – Ожидание, затем тихо: – Повзводно… – Он осекается, доканчивает: – Вторая рота… – И с трудом: – Вторая рота, не в ногу марш!
Шеренга, короткая шеренга шагает навстречу утру.
Тридцать два человека.
Нас отводят дальше обычного, в полевой сборно-учебный лагерь, на переформирование. Нашей роте требуется больше сотни человек пополнения.
До поры до времени болтаемся без дела, если свободны от дежурств. Через два дня приходит Химмельштос. После окопов спесь с него слетела. Он предлагает помириться. Я готов, потому что видел, как он помогал выносить Хайе Вестхуса, которому сорвало спину. Поскольку же вдобавок Химмельштос говорит вполне разумно, мы не против, когда он приглашает нас в столовую. Только Тьяден недоверчив и сдержан.
Однако и он смягчается, ведь Химмельштос сообщает, что будет замещать кашевара, который уезжает в отпуск. И в доказательство немедля выдает нам два фунта сахару, а персонально Тьядену – полфунта сливочного масла. Мало того, устраивает так, что на ближайшие три дня нас командируют на кухню – чистить картошку и брюкву. И получаем мы там превосходный офицерский харч.
Итак, сейчас нам обеспечено все то, что солдату нужно для счастья, – хорошая еда и покой. Немного, если вдуматься. Еще год-другой назад мы бы жутко себя презирали. А теперь почти довольны. Все входит в привычку, в том числе и окопы.
В силу этой привычки мы вроде как очень быстро забываем. Позавчера еще были под огнем, сегодня валяем дурака и шляемся по округе, а завтра снова двинем в окопы. На самом деле ничего мы не забываем. Пока мы должны воевать, фронтовые дни, закончившись, опускаются куда-то в глубины нашего существа, слишком они тягостны, и сразу же думать о них нельзя. Только задумайся – и они задним числом убьют тебя; вот это я уже заметил: кошмар можно выдержать, пока просто ему покоряешься, но он убивает, если размышляешь о нем.
Отправляясь на позиции, мы становимся животными, поскольку это единственное, что дает шанс продержаться, и точно так же на отдыхе превращаемся в легкомысленных шутников и засонь. Иначе никак не можем, что-то нас форменным образом к этому принуждает. Любой ценой мы хотим жить, и нам нельзя обременять себя чувствами, возможно весьма похвальными в мирное время, но здесь фальшивыми. Кеммерих мертв, Хайе Вестхус умирает, с телом Ханса Крамера на Страшном суде будет много хлопот – попробуй собери после прямого попадания; у Мартенса больше нет ног, Майер убит, Маркс убит, Байер убит, Хеммерлинг убит. Сто двадцать человек лежат где-то сраженные пулями и снарядами, хреново, конечно, только нам что за дело, мы-то живы. Если б мы могли их спасти, тогда да, мы бы на все пошли, даже и на гибель, какая разница, ведь при желании мы действуем чертовски энергично; боязни в нас мало, нам знаком страх смерти, но это совсем другое, инстинктивное.
Только вот товарищи наши погибли, мы не в силах им помочь, они обрели покой – кто знает, что еще нам предстоит, оттого-то мы спим или рубаем от пуза, сколько влезет, пьянствуем и курим, чтобы разогнать скуку. Жизнь коротка…
Фронтовой кошмар уходит вглубь, если повернуться к нему спиной, мы давим его похабными и мрачными шуточками; когда кто-нибудь умирает, говорим, что он откинул копыта, и вот так говорим обо всем, это спасает от сумасшествия, и, пока воспринимаем все таким манером, мы сопротивляемся.
Но мы не забываем! Военные газеты пишут о замечательном армейском юморе, о солдатах, которые, едва выйдя из-под ураганного обстрела, устраивают танцульки, однако это беспардонное вранье. Мы поступаем так не оттого, что юмористы по натуре, нет, просто без юмора нам каюк. Черепушка и без того на пределе, долго не выдержит, юмор с каждым месяцем становится все горше.
И я знаю: все, что сейчас, пока мы воюем, камнем оседает в глубине, после войны проснется, и вот тогда начнется схватка не на жизнь, а на смерть.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


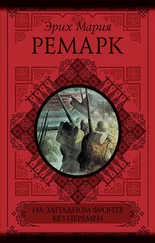

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



