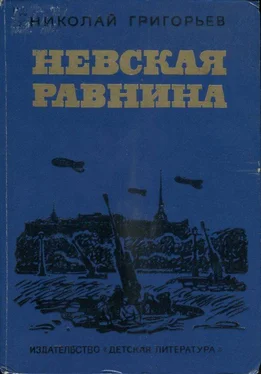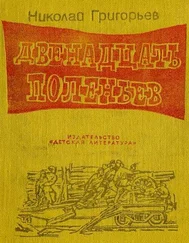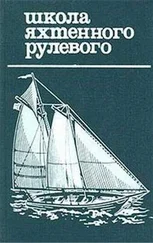Не успел я и сообразить, что это микрофон, как голос мой сел. Никакого звучания, шелест какой-то. Пробую голос усилить — пришепетывание превращается в мычание, слова не выговариваются… Юные слушатели, на которых я уже не смел глаза поднять, захихикали. Кто-то из них фыркнул, кто-то громко рассмеялся… Я уже в поту, а прекратить чтение, понимаю, нельзя: меня слушает весь Ленинград! Едва добрался до конца рассказика. Словно весь разломанный ушел за кулисы…
Маршак глядел в окно и даже не повернулся ко мне. Но Корней Иванович Чуковский, высокий, тонкий, размахивая руками наподобие крыльев мельницы на ветру, набросился на меня и стал гневно мне выговаривать:
— Безобразие, молодой человек! Хороший рассказ — и так испортить! Что с вами случилось? Если больны, надо было предупредить об этом. А то ведь всю программу испортили!
Я молчал, но от огорчения жестоко поносил себя: «Так мне и надо! Поделом! Не лезь не в свое дело. Подумаешь — книжечку состряпал, да и ту наполовину чужими руками… Серьезным делом занимался бы — ты же инженер!»
Но Корней Иванович уже смягчился. Стал давать советы: как выходить к публике, как держаться в зале. «А главное, — учил он, — лучше не читать, а рассказывать. Прочитал текст заранее и тут же забудь его. Тогда и получится натурально. И не робеть. Публика верит только смелому». Что-то еще говорил Корней Иванович, все добрея и добрея. Но вернул мне веру в себя лишь Маршак. И не словом, а дружеской улыбкой, с которой он наконец повернулся ко мне…
Вечерний чаек, устроенный комиссаром в уютной обстановке, выпит. Чирок пошел к себе, легли спать.
А через два-три дня в часы напряженных занятий комиссар берет меня под руку и предлагает прогуляться по саду.
Я заподозрил недоброе:
— Что это вдруг?
Оказалось, в батальоне переполох. Никто из ополченцев еще не знал, что я писатель. Видели во мне военного, щеголяющего выправкой, требующего от каждого дисциплины и осанки… И вдруг разочарование: «Да это же не командир! Писатель, да еще детский. Их корреспондентами назначают в армию. По ошибке он у нас…» Встревоженные люди кинулись к комиссару: мы и сами, мол, не «браво солдатушки», а с этаким командиром только голову сложить…
Если бывает, что человек от возмущения и обиды готов головой об стенку, то я был близок к такому состоянию…
— К черту все, к черту! Сейчас же пойду к генералу. Не уважит — в штаб фронта пробьюсь, пусть в самом деле ставят корреспондентом!
Владимир Васильевич схватил меня за руку и пытался шутить: «Вяжите его, вяжите!..»
Я вырвался.
— Что я теперь, ты понимаешь? Строил, строил мне авторитет, а где он?.. Честь имею представиться: оплеванный капитанишко!
И вдруг догадываюсь: Чирка работа! Послушал мой рассказ за чаепитием, да и оболгал меня перед ополченцами: мол, никакой наш капитан не сапер…
Прошлись по саду. После долгого молчания комиссар спросил:
— Что намерен предпринять?
Я задумался: смешно и глупо сводить счеты с человеком недостойного поведения. Иначе сказать — равняться с ним. И я ответил комиссару так:
— Полезен Чирок батальону? Полезен, но и на недостатки его не следует закрывать глаза. Словом, пусть работает, а там видно будет.
Владимир Васильевич заулыбался, с жаром пожал мне руку:
— Правильно, командир! Уважаю твое решение.
— Командир? — возразил я. — Нет, я уже не командир батальона. На растоптанный авторитет заплаты не поставишь. Отношения с ополченцами испорчены. Остается одно: переведусь к кадровым саперам…
— Нет, погоди, — гневно возразил комиссар. — Для игры самолюбий не время и не место. Мы в обороне страны! Кроме того… — И губы его дрогнули. — Мы ведь с тобой друзья…
— Верь, — поспешил сказать я, — нашу дружбу ценю и не удеру втихомолку.
Затем Осипов поспешил в класс на занятия, а я заперся в нашей общей комнате. Обиделся я на людей.
Я взял с полки том Дюма — захотелось присоединиться к веселым и справедливым мушкетерам. Сижу читаю, между тем ухо караулит — что за дверью?.. Вот в тишину коридора ворвался шум голосов, топот. Это перемена… Опять тишина — занятия в классах возобновились… А в дверь ни стука. Никому больше ко мне и дел нет…
Вечером опять вышли с комиссаром в сад. Устроились в павильоне Росси, над зеркалом едва струящейся здесь Мойки. Владимир Васильевич заговорил сухо, официально. Оказывается, он успел побывать и в политотделе дивизии, и у генерала и заручился обещанием, что из батальона меня не выпустят.
Читать дальше