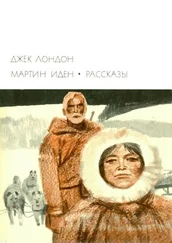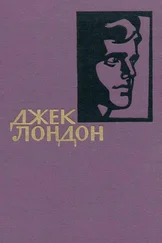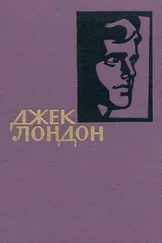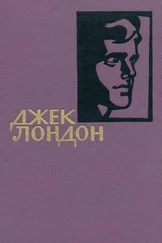– Не ври, – резко сказал Мартин, и Мэриан виновато кивнула, подтверждая справедливость обвинения.
– Так вот, скажи своему Герману, чтоб не совался куда не следует. Скажи, мол, когда я пишу стихи о девушке, за которой он ухаживает, это его дело, а остальное его не касается. Понятно? По-твоему, писатель из меня не получится, так? – продолжал он. – По-твоему, никчемный я человек?.. ничего не добился и позорю своих родных?
– По мне, ты бы лучше определился на место, – твердо сказала Мэриан, она явно говорила искренне. – Герман сказал…
– К чертям Германа! – добродушно перебил Мартин. – Я вот что хочу знать: когда вы поженитесь. И узнай у своего Германа, соизволит ли он принять от меня свадебный подарок.
Сестра ушла, а Мартин призадумался и разок-другой рассмеялся, но горек был его смех – он видел, что сестра и ее жених, и все и каждый, будь то люди его класса или класса, к которому принадлежит Руфь, одинаково подгоняют свое ничтожное существованьице под убогие ничтожные шаблоны; косные, они сбиваются в стадо, в постоянной оглядке друг на друга, они рабы прописных истин, и потому безлики и неспособны жить подлинной жизнью. Вот они проходят перед ним вереницей призраков: Бернард Хиггинботем об руку с мистером Батлером, Герман Шмидт плечом к плечу с Чарли Хэпгудом, и одного за другим и попарно он оценивал их и отвергал, оценивал по меркам разума и морали, которым его научили книги. Тщетно он спрашивал себя, где же великие души, великие люди? Не находил он их среди поверхностных, грубых и тупых умов, что явились на зов воображения в его тесную комнатушку. Они ему были отвратительны, как, наверно, Цирцее отвратительны были ее свиньи. Но вот он отослал последнего и, казалось, остался один, и тут явился запоздавший, нежданный и незваный. Мартин вгляделся: шляпа с широченными полями, двубортный пиджак и походка враскачку – он узнал молодого хулигана, прежнего себя.
– Ты был такой же, как все, парень, – усмехнулся Мартин. – Ничуть не нравственней и не грамотней. Ты думал и действовал не по-своему. Твои мнения, как и одежда, были скроены по тому же шаблону, что у всех, ты поступал так, как считали правильным другие. Ты верховодил в своей шайке, потому что другие объявили: ты парень что надо. Ты дрался и правил шайкой не потому, что тебе это нравилось, нет, в душе ты все это презирал, но потому, что тебя похлопывали по плечу. Ты лупил Чурбана потому, что не хотел сдаваться, а сдаваться не хотел отчасти потому, что был ты грубое животное, и еще потому, что верил, как все вокруг, будто мужчина должен быть кровожаден и жесток, должен уметь измордовать, изувечить ближнего. Да что говорить, ты, молокосос, даже девчонок отбивал у других парней не потому, что обмирал по этим девчонкам, а потому что теми, кто тебя окружал, кто определял уровень твоей морали, движет инстинкт дикого жеребца или козла. Ну вот, прошли годы, что же теперь ты об этом думаешь?
Словно в ответ видение мигом преобразилось. Шляпу с широченными полями и двубортный пиджак сменила не столь топорная одежда; не стало грубости в лице, жестокости во взгляде; и лицо, очищенное и облагороженное общением с красотой и знанием, просияло внутренним светом. Теперь видение очень походило на него сегодняшнего, и, вглядываясь, Мартин увидел настольную лампу, освещавшую это лицо, и книгу, над которой оно склонилось. Он взглянул на заглавие и прочел: «Курс эстетики». Потом он слился с видением, подрезал фитиль и уже сам принялся читать дальше «Курс эстетики».
В ясный осенний день, в такой же день бабьего лета, как тот, когда год назад они открылись друг другу в любви, Мартин читал Руфи «Стихи о любви». В этот предвечерний час они, как часто бывало, расположились на своем любимом бугорке среди холмов. Руфь порой перебивала Мартина восторженными восклицаниями, и теперь, отложив последнюю страницу рукописи к остальным, Мартин ждал ее суда.
Руфь медлила и начала не вдруг, запинаясь, не решаясь облечь в слова суровый приговор.
– По-моему, это прекрасные стихи, да, прекрасные, но ведь денег они не принесут, ты согласен? Понимаешь, что я хочу сказать? – продолжала она почти умоляюще. – То, что ты пишешь, не подходит для издателей. Что-то, уж не знаю что, не позволяет тебе заработать этим на жизнь, может быть, тут дело в спросе. Только, пожалуйста, милый, пойми меня правильно. Я польщена, и горда, и все такое, что стихи эти посвящены мне, иначе какая бы я была женщина. Но они не помогают нам пожениться. Неужели ты не понимаешь, Мартин? Не считай меня корыстной. Любовь, наше будущее – вот что меня тревожит. С тех пор как мы узнали, что любим друг друга, прошел целый год, а день свадьбы не стал ближе. Не сочти нескромностью, что я так прямо говорю о нашем браке, но ведь на карту поставлена моя любовь, вся моя жизнь. Почему ты не попытаешься устроиться в газету, если уж тебе так необходимо писать? Почему не стать репортером… хотя бы на время?
Читать дальше
![Джек Лондон Мартин Иден [litres] обложка книги](/books/408564/dzhek-london-martin-iden-litres-cover.webp)