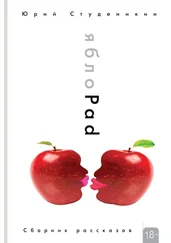До-огорю с тобой и-и я-а…
Митрофан Капитонович вспомнил слепого гармониста Яшу. Не ведая конкуренции радиол и магнитофонов, презирая слабосильные патефончики, Яша был непременным и желанным гостем на всех крестинах, свадьбах, проводах и встречах. Сам он ходил налегке, закинув назад горбоносую голову. Издали он казался очень высокомерным. Кормилицу-гармонь, завязанную в чистый белый платок, благоговейно нес кто-нибудь из ребят постарше и посолидней. Остальные, почтительно притихнув, бежали следом, чтобы потом липнуть к окнам. Яша всегда играл что-нибудь печальное, бередящее душу — такое же, как эта песня, которую передавал «Маяк». Потом Яша стаканами пил прозрачную казенную или мутноватую, подкрашенную вареньем «свою». Он тихо пьянел и лил из своих незрячих глаз слезы. Его любили и жалели — артист…
А вот детство Леньки, сына своего, Митрофан Капитонович помнил отчетливо и подробно. Жена Маруся дни напролет шила, стрекотала на швейной машинке, теща, беспрерывно ворча, топталась у плиты, сам Митрофан Капитонович работал слесарем на заводе — все были заняты, все при деле, Ленька рос нетребовательным, тихим. Рано пошел, рано заговорил…
Теща приучала Леньку к вежливости, и он вслед за ней покорно повторял всякие косноязычные «сипися» и «поляля», лишь отдаленно похожие на требуемые «спасибо» и «пожалуйста». Однажды вечером, когда все были дома, в сборе, Ленька неожиданно сказал: «Гописи!» — подражая бабке, за что и был звонко и больно отшлепан: «Не поминай имени господнего всуе!» Ленька открыл ротик с едва заметными зернышками коренных зубов, которые у него только пробивались, и горько-горько заплакал. Эти белые намеки на зубы, тонущие в беззащитной розовости десен, напомнили Митрофану Капитоновичу мякоть недозрелого арбуза. А на дворе стоял вьюжный декабрь, прошел День Конституции, а там и — Новый год, и из даров лета в семье ели только соленые помидоры, вынимая их из едкого, как щелочь, раствора и смывая с них плесень теплой водой. Тяжелая, как свекольный самогон, злоба ударила Митрофану Капитоновичу в голову, но он не изругал тещу последними словами, как хотелось, не треснул наотмашь по отечному усатому лицу. Он просто вышел вон, на мороз, без шапки и долго матерился про себя, поминая бога и его мать, глядя на далекие, дрожащие от холода звезды и тоскуя по иной — более правильной и счастливой — жизни.
Сына Митрофан Капитонович тогда не любил и стеснялся этой нелюбви, как порока. Полюбил он его позже, внезапно и сильно, будто прозрел и увидел свет и все краски мира. Позволив себе после получки его пятьдесят и пару пива, он возвращался домой. Он боялся, что обе женщины начнут ворчать, и придумывал оправдания. Сын Ленька встретил его у порога. Он стоял на нетвердых еще ножках, длинненький и худой, и слегка покачивался — как папа. Он молча наблюдал за тем, как отец отдает матери длинные сотенные, а когда тот загремел мелочью, извлекая ее из кармана, сказал, подражая звону монет и ключей:
— Гын-гын! — и счастливо засмеялся.
Услышав этот смех, Митрофан Капитонович вдруг и себя почувствовал несказанно счастливым, подхватил Леньку на руки, но поскольку потолки в доме были низки, а сам он высок, не подбросил сына вверх, как того неудержимо хотелось, а закружил его по комнате в порыве исступленной отцовской любви.
— Уронишь, Митроша, — прошептала жена Маруся, прикладывая к груди кулачок, в котором зажаты были сотенные бумажки и мелочь — получка мужа.
— …зальют зенки-то, — на секунду покинув свой пост у плиты, осуждающе пробормотала теща.
А Ленька весело хохотал, обняв отца ручонками за шею. С того вечера они как-то по-особенному полюбили друг друга, отец и сын. Провожая отца на работу, Ленька говорил:
— Иди, гын-диди! — и долго махал ручонкой на прощанье, стоя перед закрытой дверью.
Если отец задерживался, Ленька начинал волноваться и даже плакал, но Митрофан Капитонович опаздывал домой чрезвычайно редко. Он всегда приносил сыну гостинец — конфетку, пряник, блестящую никелированную гайку или книжонку, купленную в газетном киоске. Вскоре Ленькино «гын-диди» превратилось в совсем отчетливое «гостинчика неси». А еще через некоторое время забору в палисадничке понадобилась краска.
* * *
Концерт русской песни закончился, его сменил краткий комментарий доктора наук по поводу положения в Индокитае.
Чай был выпит, на дне кружки, медленно описывая круги, плавали распаренные, пухлые чаинки. Митрофан Капитонович, кряхтя, выдвинул чемодан и спрятал сахар и заварку. «Насчет бы ложечки не забыть», — подумал он, небрежно вытирая стол тряпкой.
Читать дальше