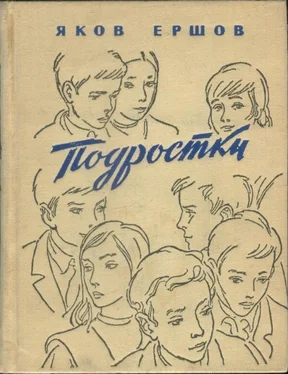— Все равно бы не стерпел, отлупил бы его.
— Что, что? Что ты там бормочешь? — не утерпела Ольга Федоровна. — Скажи нам всем, мы тебя слушаем.
Боря уткнулся взглядом в пол и молчал.
— За что же ты ударил ребенка? — спрашивала Ольга Федоровна. — И положил пятно на наш класс. Хорош ученик, нечего сказать!
Не выдержав этих, как я понимал, незаслуженных упреков, Боря поднял глаза, с укором посмотрел на Ольгу Федоровну и, вздохнув тяжело, сказал:
— Да какой же он ребенок, Ольга Федоровна! Чудно, право. Этот верзила Коркин — ребенок. И не бил я его вовсе, а так, постращал немного. Ну, — замялся он, — дал два раза по шее. Для него это и нечувствительно вовсе. У него шея жирная.
— Ну, вот видишь, — пыталась усовестить его Ольга Федоровна. — Ударил, а говоришь, не бил. И когда же я вас, мальчишки, врать отучу?
— Да ни в жизнь я не врал! — вскипел Боря. — И сейчас не вру. Ведь если по правде бить, так разве так его лупить надо? Его так бить надо, чтобы месяц в болячках ходил. А эти две оплеухи он к вечеру забудет.
Ольга Федоровна только сокрушалась, слушая эти речи.
— Ну, что мне с вами, баловниками, делать? Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Ведь я тебя о чем спрашивала? За что ты его побил? А ты мне что говоришь?
Боря словно только сейчас понял, чего от него хотят.
— Что я говорю? — переспросил он. — Чистую правду говорю. Ведь он, Коркин этот, до чего додумался? Мы синичек подкармливаем, к школьному саду приучаем. А он? Он их ловит и потом на птичьем рынке продает. На мороженое себе зарабатывает.
Собравшиеся в учительской переглянулись. По напряженным и протестующим взглядам можно было догадаться, что им не хотелось верить тому, что говорил Боря. А он продолжал:
— Я ему один раз сказал, другой раз сказал: «Брось этим свинством заниматься». А сегодня вижу: чуть свет к школе прибежал и из ловушки своей синицу вынул. В портфель спрятал. У него там клетка малюсенькая. Как раз для одной птички. Ну, я ему пообещал башку свернуть. А для убедительности легонько стукнул, чтоб почувствовал, для чего ему голова дана. Ведь с ним иначе нельзя, с Коркиным-то. Не поймет.
В учительской наступило молчание. Учителя старались не глядеть в глаза друг другу. И только Ольга Федоровна чувствовала, что ей что-то надо сказать.
— Все равно, — упорствовала она. — Так нельзя. Надо было мне сообщить. Обсудили бы его на классном собрании.
— Да он не поймет, Коркин-то, — твердил свое Боря. — Он только силу признает.
Я и не заметил, когда Мария Сергеевна вышла из учительской, тихонько прикрыв за собой дверь.
Меня занимало, почему при обсуждении письма, найденного в классе, не выступила Тамара. Я спросил об этом у Бори.
— Наверное, боялась, что не выдержит и назовет автора письма, — сказал он.
— Глупо, — ответил я.
Борис уклонился от спора. Тогда я поинтересовался:
— А как у вас с Тамарой?
— Неважно. Знаешь, она до сих пор носит в портфеле фотографию своего отца. А три года после смерти его прошло. Я спросил: «Зачем? Только расстраиваешь себя». А она в ответ: «Нет. Наоборот. Я набираюсь сил. Посмотрю на него, и легче становится». Мне стало жаль ее, и я шепнул: «Помни, Тома, у тебя есть настоящий друг, который никогда не подведет».
— А она?
— Сказала: «Спасибо». Тихонько так сказала. Но я расслышал.
Вообще Борис очень изменился. Странный стал какой-то. Рассеянный и нервный. И разговор у него несвязный. Перескакивает с одного на другое. Мы сидели на скамейке в парке, и я рассказывал ему о только что прочитанной очень интересной книге — «Червонные сабли». Он глядел на меня, вроде бы слушал внимательно. И вдруг спросил:
— А может твой отец достать еще раз пропуск на завод?
— Зачем тебе?
— Да знаешь, Оськина надо сводить.
Выходит, все это время он совсем о другом думал. А мои слова мимо ушей пропускал.
Виделись мы с ним только в школе. По-моему, он избегал встреч с товарищами. Едва заканчивались уроки в школе, как он бесследно исчезал, и его невозможно было найти ни дома, ни на пустыре за оврагом, где обычно в свободное время гоняли шайбу ребята.
Март выдался слякотный. Всем — старым и малым — надоели оттепели. Теплый циклон со Средиземноморья окончательно согнал снег с бульваров, и на проталинах уже выступили зеленые лепестки травы. В тот день я не пошел на стадион. Там теперь так извозишься, что мама родная не признает. Решив как-то скоротать время, забрел в лабиринт узеньких тупичков и переулков, оставшихся от старой городской окраины. Домики тут стояли деревянные, покосившиеся, с палисадничками. Во дворах — яблони, махавшие сейчас на ветру голыми ветками.
Читать дальше