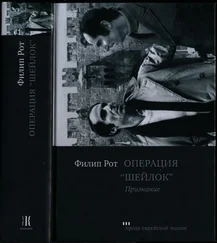В этом месяце будет три года. 21 декабря. В 1970 году это был понедельник. Невропатолог сказал ему по телефону, что опухоль мозга убьет ее за две-четыре недели, но когда Цукерман примчался из аэропорта и вошел в палату, кровать уже была пуста. Его брат, прилетевший отдельно, за час до него, сидел в кресле у окна: губы сжаты, лицо белое — выглядел он, при всей своей стати и силе, так, словно слеплен из гипса. Пихни — и он рассыплется на кусочки.
— Мама ушла, — сказал он.
Из всех слов, которые Цукерман когда-нибудь читал, писал, произносил или слышал, он не мог подобрать двух других, сравнимых по убедительности высказывания с этими двумя. Она не идет, не пойдет, она ушла.
В синагоге Цукерман не бывал с начала шестидесятых — тогда он ездил туда каждый месяц отстаивать «Высшее образование» циклом лекций для общины. Он, неверующий, тем не менее обдумывал, не следует ли похоронить мать по ортодоксальному обряду — обмыть, завернуть в саван, положить в простой деревянный ящик. Еще до того, как ее начали беспокоить первые тревожные признаки смертельной болезни, после четырех лет ухода за мужем-инвалидом она уже стала копией своей покойной матери в старости, и именно в морге больницы, уставившись на доставшийся от предков выступающий нос, притороченный к маленькому, почти детскому фамильному черепу — изогнутый серп, за которым резко катился вниз каркас измученного заботами лица, — он и подумал об ортодоксальных похоронах. Но Генри хотел, чтобы она была в сером платье из мягкого крепа — в нем она так чудесно выглядела, когда они с Кэрол повели ее в Линкольн-центр послушать Теодора Бикеля [12] Теодор Бикель (1924–2015) — американский певец, исполнитель песен на идише.
, и Цукерман не видел смысла спорить. Он пытался найти этому трупу соответствующее место, соединить то, что случилось с его матерью, с тем, что случилось с ее матерью, на похоронах которой он ребенком присутствовал. Он пытался вычислить, где в жизни было их место. А что до облачения, в котором она будет гнить, пусть Генри делает что хочет. Главным было выполнить это последнее задание как можно безболезненнее: тогда ему и Генри никогда больше не надо будет ни о чем договариваться или друг с другом общаться. Они поддерживали связь только ради ее благополучия, и у ее пустой кровати они встретились впервые за год, прошедший после похорон отца во Флориде.
Теперь она целиком принадлежала Генри. Организационные вопросы он взял на себя, но занимался ими так сердито и истово, что всем было совершенно ясно — вопросы касательно похорон следует адресовать младшему сыну. Когда в квартиру матери пришел обсудить службу раввин — все тот же молодой раввин с шелковистой бородкой, который совершал обряд у могилы отца, — Натан сидел в сторонке и молчал, а Генри, только что вернувшийся из похоронного бюро, расспрашивал раввина о процедуре.
— Я думал немного почитать стихи, — сказал ему раввин. — Что-нибудь о том, как все растет. Я знаю, как она любила растения.
Все взглянули на комнатные цветы так, как будто это были осиротевшие дети миссис Цукерман. Слишком мало времени прошло, чтобы четко видеть и цветы на подоконнике, и кастрюлю с лапшой в холодильнике, и квитанцию из химчистки у нее в сумке.
— Потом я прочту несколько псалмов, — сказал раввин. — А в заключение, если вы не против, я бы поделился личными наблюдениями. Ваших родителей я знал по синагоге. Знал их хорошо. Знаю, как славно им было вместе, быть мужем и женой. Знаю, как они любили свою семью.
— Хорошо, — сказал Генри.
— А вы, мистер Цукерман? — спросил раввин Натана. — Хотите ли вы поделиться какими-нибудь воспоминаниями? Я буду рад включить их в свою речь.
Он достал из кармана блокнот и карандаш — записать то, что скажет писатель, но Натан только покачал головой.
— Воспоминания, — сказал Цукерман, — приходят со временем.
— Ребе, — сказал Генри, — надгробную речь скажу я.
Раньше он говорил, что не сможет произнести речь — не справится с чувствами.
— Если вы, несмотря на свое горе, сможете, — ответил раввин, — что ж, прекрасно.
— А если я заплачу, — сказал Генри, — беды не будет. Лучше нее мамы в мире не было.
Итак, наконец история будет изложена правдиво. Генри сотрет из памяти флоридских друзей ее клеветнический образ в «Карновском». Жизнь и искусство совсем не схожи, подумал Цукерман, неужели это неясно? Однако это различие трудноуловимо. Всех озадачивает и бесит то, что сочинительство — это игра воображения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу