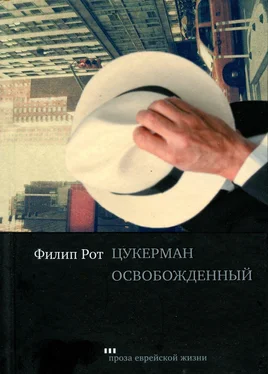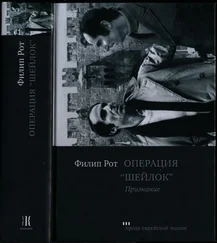Цукерман, его брат и раввин были на несколько десятков лет младше всех присутствующих. Остальные были либо пожилыми соседями его родителей по Харбор-Бич, либо ньюаркскими приятелями отца, тоже перебравшимися на пенсии во Флориду. Кое-кто провел вместе с доктором Цукерманом детство в Центральном районе Нью-Джерси, еще до Первой мировой. Большинство из них Цукерман видел последний раз еще мальчишкой, когда они были немногим старше, чем он сейчас. Он слышал знакомые голоса — только лица были морщинистые, обвисшие — и думал: вот если бы я все еще писал «Карновского». Какие воспоминания затронули эти голоса — о банях на Чарлтон-стрит, о каникулах в Лейквуде, о походах на рыбалку к устью реки Шарк, дальше по берегу. Перед похоронами каждый подошел и обнял его. О книге никто не упомянул; возможно, ни один из них ее не прочитал. Эти вышедшие на пенсию торговцы, коммерсанты и ремесленники преодолели в жизни немало трудностей, но чтение книг в их число не входило. Даже молодой раввин не вспомнил при авторе о «Карновском». Возможно, из уважения к усопшему. Оно и к лучшему. Он здесь не как «писатель» — писатель остался на Манхэттене. Здесь он Натан. Иногда жизнь не предлагает опыта мощнее, чем такое вот разоблачение.
Он прочитал поминальную молитву, кадиш. Когда гроб опускают в могилу, даже неверующему нужно пропеть несколько слов. В «Йитгада’л ве-йиткада’ш» [44] Да возвысится и освятится Его великое имя ( пер. ).
для него было больше смысла, чем в «Будь яростней пред ночью всех ночей» [45] Строка из стихотворения Дилана Томаса «Не уходи безропотно во тьму», написанного умирающему отцу. Перевод В. Бетаки.
. Если кого и должно было похоронить по еврейскому обряду, так это его отца. Не исключено, что в конце концов Натан позволит похоронить себя как еврея. Лучше, чем как богемного писателя.
— Два моих мальчика, — сказала мать, когда они только что не несли ее по дорожке назад к машине. — Два моих высоких, сильных, красивых мальчика.
Лимузин, проезжая через Майами к их дому, остановился на светофоре у супермаркета; покупательницы, в основном кубинки средних лет, почти на каждой — лифчик от купальника с шортами и босоножки на каблуках. Большое количество протоплазмы, она же и займет место, освобожденное в пенсионерской деревне мертвых. Он заметил, что Генри тоже смотрит. Лифчик от купальника Цукерману всегда казался особенно провоцирующей деталью — вроде и одежда, а вроде и нет, но вид сочащейся плоти этих женщин пробуждал лишь мысли о разлагающейся плоти отца. Он не мог думать почти ни о чем другом с того момента, когда всю семью усадили на первый ряд в синагоге и молодой раввин с бородой почти как у Че Гевары стал вещать о добродетелях усопшего. Раввин хвалил его не только как отца, мужа и хорошего семьянина, но и как «гражданина — его не оставляло равнодушным происходящее в мире, и он остро реагировал на страдания человечества». Он говорил о множестве газет и журналов, на которые был подписан и которые штудировал доктор Цукерман, о множестве писем протеста, которые он упорно писал, говорил о том, с каким энтузиазмом он относился к американской демократии, как страстно желал, чтобы Израиль окреп, с каким отвращением воспринимал бойню во Вьетнаме, как боялся за евреев в Советском Союзе, а Цукерман тем временем думал о слове «угас». Все это почтенное морализаторство, все завуалированные нравоучения, все никчемные запреты, этот оплот благочестия, Люцифер устоев, Геркулес непонимания, он угас.
Странно. Должно было быть совсем наоборот. Но никогда прежде он не смотрел на жизнь отца так бесчувственно. Словно хоронили отца каких-то других сыновей. А что до человека, описанного раввином, что ж, никто еще не понимал доктора Цукермана настолько неправильно. Быть может, раввин просто старался показать, насколько доктор Цукерман не похож на отца в «Карновском», но по нарисованному им портрету можно было подумать, что покойный был просто-таки Швейцером. Не хватало только органа и прокаженных. А почему, собственно, и нет? Кому от этого плохо? Это же похороны, а не роман, тем более не Страшный суд.
Отчего такой нещадный накал? Если не считать невыносимой жары и их потерянной, беззащитной, почти обезножевшей матери? Если не считать жалкого зрелища, которое представляли собой старые друзья семьи, заглядывающие в могилу, куда их тоже должны отправить через тридцать, шестьдесят, девяносто дней, гиганты-шутники из его детских воспоминаний, теперь такие тщедушные, что, несмотря на здоровый загар, их можно было спихнуть к отцу в могилу, и им бы не выкарабкаться… Если не считать его чувств. Напряжение от отсутствия горя. Удивление. Стыд. Ликование. Стыд из-за этого. Но тело отца огорчало, когда Натану было двенадцать, пятнадцать, двадцать один: огорчало то, что отец для многого был мертв, пока жил. И от этого горя смерть была избавлением.
Читать дальше