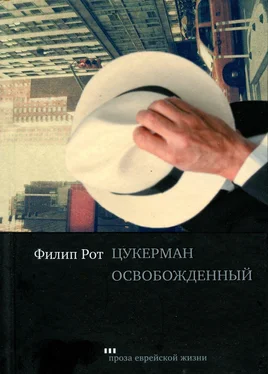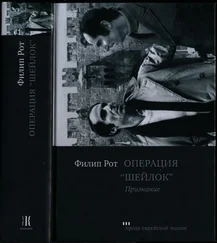На конверте красным фломастером было написано «Престиж Пате Интернешнл». Внутри лежал скомканный мокрый носовой платок. Тот самый, который он дал Пеплеру вчера вечером — вытереть руки после того, как Пеплер доел сэндвич Цукермана. Записки не было. Только, в качестве послания, затхлый кислый запах, который он без труда опознал. Доказательство, если требуются доказательства, общей у Пеплера с Гилбертом Карновским «заморочки», которую Цукерман украл у него для своей книги.
4. Оглянись на дом свой, ангел
На столике у кровати лежали ксерокопии — по пять центов за страницу — всех писем протеста, которые доктор Цукерман отправил Линдону Джонсону, когда тот был президентом. В отличие от собрания его писем к Губерту Хамфри [43] Губерт Хамфри (1911–1978) — американский политик, вице-президент США при президенте Линдоне Джонсоне.
папка Джонсона, перетянутая широкой резинкой, была толщиной с «Войну и мир». Письма к Хамфри были редки и скупы, а также исполнены сарказма и едкой злости, что показывало, до чего низко он пал в глазах доктора Цукермана с тех пор, как стал любимчиком «Американцев за демократические действия». Чаще всего Хамфри получал презрительную записку в одну строчку, с тремя восклицательными знаками. И на открытке — чтобы любой, кто возьмет ее в руки, увидел, каким трусом стал вице-президент. Но президенту Соединенных Штатов, пусть он и наглый тупоголовый ублюдок, доктор Цукерман писал рассудительно, на именном бланке, при любой возможности поминал Франклина Делано Рузвельта и подкреплял свои аргументы против войны мудрыми, хоть и не всегда к месту высказываниями из Талмуда или давно покойной старой девы по имени Хелен Макмерфи. Мисс Макмерфи, как было известно всей семье (и всему миру — из рассказа, давшего название сборнику «Высшее образование», Натан Цукерман, 1959), была его учительницей в восьмом классе. В 1912 году она пошла к отцу доктора Цукермана, простому рабочему, и потребовала, чтобы умнице Виктору дали окончить среднюю школу, а не отправили на местную шляпную фабрику, где его старший брат уже корежил себе пальцы, работая по четырнадцать часов в день на штамповочной машине. И, как было известно всему миру, добилась своего.
Хотя у Линдона Джонсона не хватило ни времени, ни — как выразилась миссис Цукерман — «элементарной порядочности» ответить на письма, которые он получал от истинного демократа, тяжко трудившегося во Флориде, доктор Цукерман продолжал надиктовывать жене по три-четыре страницы почти каждый день: он просвещал его в американской истории и еврейской истории, а также излагал собственные философские воззрения. После удара, лишившего его связной речи, он не очень понимал, что происходит в его комнате, не говоря уж об Овальном кабинете, где теперь всем заправлял его заклятый враг Никсон; но постепенно пошло улучшение — врачи говорили миссис Цукерман, что потрясены его волей. Мистер Метц навещал его и читал ему вслух статьи из «Нью-Йорк таймс», и однажды днем доктор Цукерман сумел сообщить жене, что хочет, чтобы ему принесли из дома папки с письмами, со столика рядом с инвалидным креслом. С тех пор она садилась с ним рядом и переворачивала лист за листом, чтобы он видел все, что когда-то написал, и жил, чтобы писать дальше. По его просьбе она стала показывать письма врачам и медсестрам, которые к нему приходили. К нему возвращалась ясность сознания, он даже стал демонстрировать свой былой «огонь», пока однажды, как только мистер Метц ушел, а миссис Цукерман пришла заступать в дневную смену — он не потерял сознание, и его срочно отправили в больницу. Миссис Цукерман обнаружила, что сидит в карете скорой помощи с папками писем в руках. «Что угодно, что угодно, — объясняла она потом Натану ход своих мыслей, — что угодно, лишь бы у него появилась воля к жизни». Цукерман задавался вопросом, а говорила ли она хотя бы себе: «Хватит, пусть уж все закончится. Невыносимо смотреть, как он все это выдерживает».
Впрочем, она была женой, за которую с двадцати лет каждую мысль думал муж, а не сыном, который бился за каждую свою мысль с еще более юного возраста. Когда самолет пошел на снижение, Цукерман вспоминал лето двадцать лет назад, тот август перед его отъездом в университет, когда он прочитал три тысячи страниц Томаса Вулфа, сидя на занавешенной веранде позади душного родительского дома — душного в тот август не только из-за погоды, но и из-за отца. «Так что он считал, что находится в средоточии жизни; считал, что горы окаймляют сердце мира; считал, что среди хаоса случайностей неизбежное происходит в неотвратимый момент и тоже пополняет его жизнь». Неизбежное. Неотвратимое. «О да!» — добавил страдающий от духоты Натан на полях романа «Оглянись на дом свой, ангел», не осознавая, что гулкий тревожный звук этих прилагательных не всегда так беспокоит, когда сталкиваешься с неизбежным и неотвратимым в средоточии твоей жизни, а не сидишь на веранде. В шестнадцать лет он мечтал только стать романтическим гением, как Томас Вулф, и уехать из маленького Нью-Джерси, от всех тамошних недалеких провинциалов, и погрузиться в глубины раскрепощающего мира искусства. Как оказалось, он всех их забрал с собой.
Читать дальше