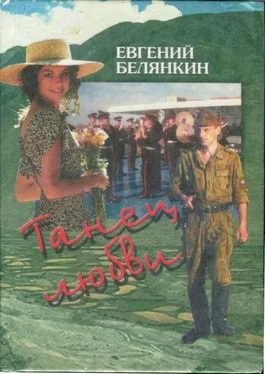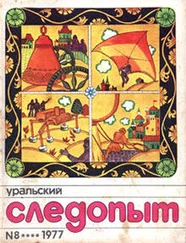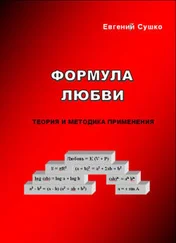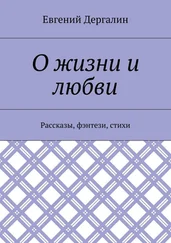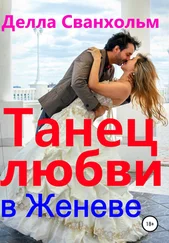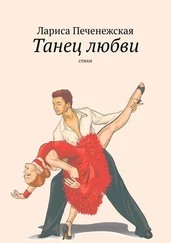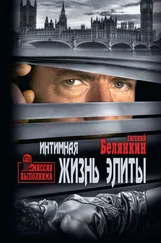Годами вырабатывала суворовская система свои ценности и традиции. Никто не знает, когда и как они возникли, — может быть, на заре рождения суворовских училищ, может быть, совсем недавно, но в каждом взводе складывались свои компании, куда вход другим был заказан. «Клановые отношения», между прочим, появились сразу, как только сформировалась рота и Димка натянул на себя черные брюки с красными лампасами.
Здесь была своя ротная элита — те, кому, как говорят, повезло «от мамы». Это прежде всего мажористые, холеные ансамблисты — ребята из училищного и ротного ансамблей. Они — кумиры, к ним и сержантская братия относилась с особым уважением. К этой элите тесно примыкали спортсмены — сильные и разбитные молодцы, слово которых во взводе часто было решающим. К Мише Горлову, к Скобелеву, к борцу Макару Лозе, как говорится, и отношение с поклоном.
Была группа и рангом пониже — отличники, как правило, школяры, — их недолюбливали и «мажоры», и все прочие. И хотя элитный костяк и учился не хуже их, и мыслил раскованнее, вызывая у офицеров откровенную симпатию, школяры-отличники также имели свой твердый статус, особенно у падких на отметки командиров взводов и ротного.
Димка тоже учился неплохо, но отличником не был. Школяров он презирал, может быть, еще и потому, что сам во многом был школяр — «мидел», т. е. мальчишка, выросший в более-менее интеллигентной семье и набравший некоторый духовно-интеллектуальный багаж для того, чтобы спорить с учителями. Именно из этих интеллектуалов формировались «независимые», спорящие до одури всезнайки, которые в отличие от школяров-отличников, умели блеснуть свежестью ума и знанием жизни. Именно эта демократическая часть суворовцев была наиболее раскрепощена и культурна, что, впрочем, не мешало им бегать в самоход, бренчать на гитарах и до крови драться с гражданскими металлистами… Считалось, что они в основном пойдут в военные журналисты, политработники, науку. Во втором взводе их ярким представителем, конечно, был Саша Вербицкий. Ему-то во всем и подражал Разин.
Но были и свои металлисты (тайком пришпиливали булавки на брюки), и фаны хард-рока и еще чего-то… В этих общинах — ребята, как правило, разболтанные, но не глупые. Их тоже понимали, и их настроение учитывали: ведь это была масса, хоть и не основная, но настырная и в своих пристрастиях бойкая.
Конечно, названия этих группировок менялись с годами, в зависимости от ситуации и общего настроения. Бывали и «кирпичи», и свои «бомжи», и даже «хиппи». Но самое незавидное положение занимали забитые «мышки» — плебеи. Серых мышек было немало, они как трутни в пчелином улье: ими все помыкают, но без них жизнь взвода и роты бедна и неинтересна. Это они мечутся из стороны в сторону, глазея на взводных и ротных кумиров… Это они — «лохи», фундамент, на котором строится вся иерархия ребячьей жизни. Это из их среды появляются Шарики, типа Кости Шарикова, которые, подобно дворовым собачкам, трутся об ноги, становясь «стукачами» или полупреданными адъютантами того же Карсавина или Мишки Горлова…
Димка Разин вон из кожи лез, чтобы прослыть интеллектуалом. Однажды на литературе, когда лощеный капитан Колесников, по прозвищу Колесо, устало снял очки и обвел класс своим близоруким взглядом, давая понять, что наступила пауза, Димка не замедлил поднять руку.
— Что, Разин?
— Егор Витальевич…
Обычно к преподавателям-офицерам обращались по званию, но Колесников сам отступил от этого правила, как старый училищный демократ.
— На уроке, — говорил он сладковато, — как-то лучше звучит имя и отчество, ведь мы же люди цивилизованные…
Разин почуял это одним из первых.
— Егор Витальевич… Хочу прочитать классу отрывки из одной лермонтовской поэмы — «Измаил-бей». Дело в том, что она, быть может, известна лишь знатокам, литературным гурманам.
— Вот как, интересно, — вдруг насупился Колесников. — Не против, читай, Разин…
— А вообще я хотел сказать, что русская поэзия создавалась мальчишками нашего возраста…
По классу прошел глухой смешок.
— Но ведь это же правда! Пушкин и Лермонтов, два столпа русской поэзии, кто они? Два мальчишки, но какие! Мы еще протираем штаны о казенные стулья, а они в это время, в свои четырнадцать-пятнадцать лет уже создавали поэтическую славу России… Ведь так, согласитесь!..
Два брата близнеца — Денис и Тарас Парамоновы — сидели за первыми столами, оба веснушчатые, с круглыми недоуменно расплывшимися физиономиями.
Читать дальше