Но ничего страшного не случилось, и трассирующие пули, выпущенные из того пулемета, летели себе и летели как ни в чем не бывало по самой средине улицы и таяли, гасли, потухали безобидно, печально и красиво где-то в темной уличной глубине.
И вдруг офицер и провожающий его солдат в мгновение ока исчезли с улицы, беспокойно простреливаемой крупнокалиберным пулеметом. Их словно ветром сдуло, а улица вдруг ярко и мертвенно осветилась взлетевшими в разных концах ее двумя белыми ракетами, и тут сразу поднялась неистовая испуганная пулеметно-винтовочно-автоматная пальба, рванулось на мостовой, ухнуло несколько крупных гранат, и так же враз, словно сконфузясь, все стихло. И уже трудно было понять, кто в кого, почему и откуда стрелял.
Но этой страшной, истерической стрельбы, длившейся ровно столько, сколько качались подвешенные над улицей ракеты, ни Ревуцкий, ни Скляренко не слышали. Они в это время, спрыгнув, сбежав по каменным ступенькам, шли гулким, длинным, темным подвалом, перебирая руками по его скользкой, мокрой и липкой степе, так что, когда настало время выбираться им наверх, никакой стрельбы уже не было.
Вылезши из подвала, они очутились в том самом доме, на котором, по словам ротного командира, "держалась вся улица". Позднее, когда достаточно рассвело и можно было оглядеться, узнать и определить, что к чему и зачем, лейтенант Ревуцкий понял: дом был действительно ключевой, заглавной позицией роты, захватившей и удерживающей в своих руках улицу, так как из окон его контролировались и просматривались все ближние и дальние подходы к этой улице. "Уголком" его назвали тоже не напрасно: он углом, как утюг, врезался в площадь с краснокаменной, голой и сумрачно строгой католической церковью на противоположной стороне.
Лейтенант взбежал следом за солдатом на второй этаж. Здесь чувствовались люди. Двери были выбиты, выломаны или распахнуты настежь, и лейтенант, еще не увидев ни одного человека, почувствовал непременное здесь присутствие людей: откуда-то в коридор тянуло табачным дымом, кто-то с кем-то по-ночному тихо, мирно переговаривался, где-то послышался сдержанный смех и очень отчетливый после этого возглас густым, дьяконским басом:
— Ну и балда же ты непоправимая, Авдеев!
Да, все говорило о том, что тут были люди, и самое отрадное — свои.
Вошедших осветили фонариком, властно сказали из темноты:
— Стой!
— "Панорама", свои, свои, — весело и торопливо сказал Скляренко. — Здорово! Кто теперь за командира у вас?
— Ты, малыш, притопал?
— Та я ж, товарищ Белоцерковский.
— Ну, здоров. Зачем тебя принесло?
— Товарища лейтенанта привёл командовать вами.
— Ступайте к сержанту Егорову. Он в самом "уголке".
Сержант Егоров находился в самой что ни есть угловой комнате. Как тут можно было жить-размещаться цивильным жителям, одному богу, вероятно, известно, однако для уличного боя комната эта была доброй находкой: окна, выходившие направо и налево, а одно, широкое, с балконом-фонарем, — на самую площадь, давали возможность и глядеть и отстреливаться тоже на все три стороны, без особых хлопот держать чуть ли не круговую оборону.
4
А ночь шла на убыль. На улице уже стало сереть, и в доме можно было хотя и с трудом разглядеть лица людей.
Сержанту Егорову, скуластому, широкоплечему, по виду годов сорока человеку, и принадлежал тот дьяконский бас, коим кто-то был добросердечно назван балдой.
Кто же? Лейтенант Ревуцкий пожал руку сержанту и, стоя рядом с ним в простенке меж окон, огляделся. Здесь, кроме него, Скляренко и сержанта Егорова, еще был всего лишь один, круглолицый, со смуглым, грибным, румянцем на щеках, молодой и, видать, разбитной, веселый человек. Он сидел на полу возле откупоренного цинка, заряжал патронами круглые автоматные диски и, улыбаясь во весь большой рот, скалясь, смотрел на лейтенанта.
— Ну не балда ли ты, Авдеев? — спрашивал, тоже улыбаясь, сержант Егоров.
— А в чем дело? — спросил лейтенант.
— Спрашивает у меня, — охотно, с удовольствием принялся рассказывать сержант Егоров, — где, мол, трассирующие, а где простые лежат. Я говорю: ты читать умеешь? На ящиках написано. А он говорит: во-первых, темно и надписей не видать, а во-вторых… — Тут Егоров махнул рукой. — Да пусть лучше он сам расскажет.
— А я, товарищ лейтенант, про одну старуху ему напомнил, — подхватил разговор Авдеев. — Ее поп так-то по написанному все учил обходиться. Ты, говорит, побольше Евангелие читай, там про все печатно сказано. А бабка ему отвечает, я, батюшка, перестала верить написанному-то. Намедни шла, гляжу: на заборе слово одно выведено, я заглянула за забор, а там только дрова лежат.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

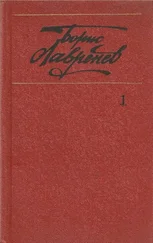
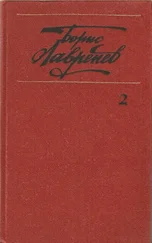




![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


