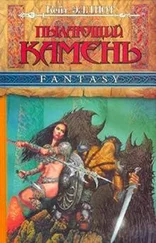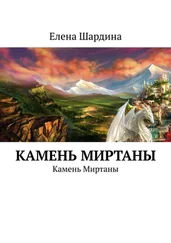Было это в четверг, а в субботу он пошел к ксендзу, попросил его соборовать, а то он себе назначил, что в воскресенье пополудни помрет, и не хочет ксендза своею смертью утруждать — идти-то к нему на другой конец деревни. Да и ксендза может на месте не оказаться. К смерти у Пражуха давно был приготовлен дубовый гроб, черный костюм, штиблеты, рубашка, галстук. Утром он обрядил скотину, покормил собаку, кошку, подмел горницу, перебил мух, слил молоко в мешочек на сырок. Потом вымылся, побрился, оделся и крикнул Стругале, чтобы тот пришел громницу [9] Освященная восковая свеча, которую зажигают возле умирающих.
зажечь. А последние его слова были такие:
— Завещание, Стась, лежит за образом Христа. Все там расписано, кому что, а сырок, когда стечет, возьми себе.
Вот и осталось мое хозяйство — брошенным на волю судьбы. Даже из ближайших соседей если кто им потом и занимался, то спустя рукава, лишь бы отделаться и для себя побольше урвать. Вернулся я все равно как на пепелище. Не знал, за что хвататься. У телеги дрога треснута, боковины куда-то пропали. От собаки одна конура осталась, даже цепь кому-то понадобилась. А зашел в овин, так в сусеках дно видно, зато воробьев тьма-тьмущая. Точно я под мельничным затвором вдруг оказался, и сверху на меня хлынула вода. Писк, крик, я чуть не оглох. И не очень-то они меня испугались, до того обнаглели. Только те, что сидели на току, сорвались с места, хотя тоже вроде бы до последней минуты раздумывали, стоит ли меня бояться. Я им вдогонку кинул свою палку, но разве в воробья попадешь, улетели под самую крышу. А палка ударилась об стену, упала в сусек, и пришлось за ней через загородку перелезать. Такое меня зло взяло, что я задрал голову и принялся этих воробьев последними словами честить, вы, такие! разэдакие! ироды! Да разве они услышат? Тут иерихонские трубы нужны, чтобы перекричать этот писк, крик. Да еще у воробьев и у человека наречья разные, они все равно бы ни черта не поняли. Ну погодите вы у меня, окаянные!
Вышел я поискать кнут. Но попробуй найди, когда тебя два года дома не было. Потащился к соседу.
— Дай, Франек, кнут.
— Никак в поле собрался? Ты ж только-только из больницы.
— Не в поле, воробьев гонять.
— А чего ты кнутом воробьям сделаешь?
Я запер ворота, встал посреди гумна и, опираясь одной рукой на палку, другой давай размахивать кнутом, и щелкать, и лупить, до самых стропил доставал и уа-а! уа-а! орал, что было мочи. Забурлило, заклубилось в овине. Точно крутень вдруг этих воробьев подхватил и начал выметать из сусеков, из-под стрехи, невесть откуда, и сбивать в одну обалдевшую от страха тучу, шелестящую тысячами крыльев. Бывает, когда по саду пролетит вихрь, листва на деревьях так шумит. Не воробьи, а буря, заметь. Овин затрясся. А я уа-а! уа-а! — и кнутом. Их швыряло, гоняло туда-сюда, вверх, вниз, мне приседать приходилось, потому как и через меня тоже. То на ворота кидало, но ворота заперты, то к небу, но там крыша, то на стены. А в стенах дыры с кулак, овин-то старый, да еще в войну осколками изрешеченный, и голубь мог пролететь, не то что воробей. Но в такой заварухе каждый воробей все равно что туча воробьев, а туче воробьев не протиснуться в дырку для одного. В воздухе аж смрад от нагревшихся перьев повис, мякиной так воняет, когда веют зерно. Только это не мякина, откуда тут мякине быть? Это воробьиный страх смердит мякиной, когда воробьи сбиваются в кучу и от воробьиной смерти бегут.
Палку я выронил, но — прямо чуда — ноги сами меня держали. Я даже не чувствовал, что они болят, вообще не чувствовал, что подо мной ноги есть. Ковылял взад-вперед по току и — уа-а! уа-а! Горло пересохло, как колодец в сушь, и рука устала от кнута. Но и воробьи там, вверху, тоже, видать, притомились, потому что начали место искать, где б хоть на минутку присесть. И ни кнут мой их больше не страшил, ни мои вопли. Ну нет, я вам не уступлю, подумал я, пусть даже замертво свалюсь. Схватил цепы, в углу возле сусека цепы стояли, и давай ими размахивать, колотить по гумну, садить по воротам, по загородкам, по столбам. И буря эта, заметь, поднялась снова. Только птицы уже не метались сплошной плотной тучей, а поделились на облачка, на клочья, на отдельных воробьев. И швыряло их теперь во все стороны, даже друг на дружку. Можно было сказать, не воробьи, а воробьиная пыль, воробьиный страх, воробьиная смерть мечется по овину. И в этой пыли, страхе, смерти бились птахи об стены, о стропила, стропильные схватки и шмякались наземь, как гнилые яблоки с яблони. А то вдруг точно кто-то изо всех сил встряхивал овин, и тогда сверху сыпался настоящий град. Хотя те, кто живы остались, еще пытались удрать, и, может, казалось им, что они вырвались из овина на волю, пролетели, как воробьиные призраки, сквозь крышу, стены и парят в поднебесье, все выше и выше взвиваясь, все дальше от моих цепов. Потому что и воробьям, когда они так ошалеют, может невесть чего примститься. Несколько и на меня свалилось, но что такое воробей, даже если падает замертво. Комочек перьев всего-то. Да и зол я был, и цепами этими намахался, так что, хоть бы и камни на меня сыпались, мне бы чудилось — падают воробьи.
Читать дальше