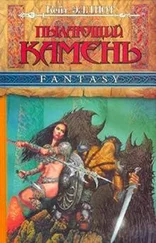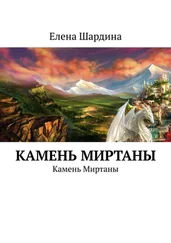Музыканты поужинали, вот водка и кипела у них в крови. Пиджаки поснимали, играли в одних рубашках. А иные и рубашку расстегивали до пупа и ремень распускали, и штиблеты скидывали, чтоб не жали ноги. Все ради музыки. Теперь только распахивалась у музыкантов душа. А играли они, эге-гей! Губ не чуяли, рук не чуяли, нутром играли, точно ничего другого не делали отродясь. Играли так, что после и умереть не жалко. Аж громы где-то гремели. И войско шло на войну. И свадьба ехала на хмельных конях. И цепы бухали на гумне. И земля сыпалась на гроб. Тут уже и не стыдно было девчонку облапить так, сяк и за задницу даже схватить. И под кофточку залезть. И ноги с ее ногами переплести. И девчонки сами к тебе на колени запрыгивали. И плясали до упаду. Отцов-матерей забывали, стыд забывали. И даже десять заповедей господних. Потому что и ад, и рай были здесь, на гулянке. Грудь прижималась к груди, живот к животу. И, хихикая, млея, вступали девки в рай, через платья чувствовалось, как сладко им. А в оркестр вселялся бес и чего только не делал. Смычком наяривал, точно косой прохаживался по господским башкам. В кларнет вихрем дул. Гармонь аж вокруг себя обвертывал. По барабану камнями лупил. А уж если на дворе душная, горячая ночь, одно оставалось — пустить кровь.
Тогда с любого пустяка закручивалось. Вдруг в одном углу все как собьются в кучу, будто кто-то зал наклонил. И сразу визг, крик, Иисусе, Мария, Стасеньки, Ясеньки, чтоб вас черт, окаянные! Наши, ко мне! Наших бьют! А ноги еще пляшут, не остановить. И девчонка еще приросла к тебе, как к березе трутовик. Хоть ножом ее отрезай. Не пускает, целует, плачет, молит:
— Шимек, уйдем! Не ходи туда! Согласна я. Хочу. Слышишь, Шимек? Передумала. Хочу! Господи Иисусе, убьют ведь тебя! Шимек!
А тут уже кто-то скамейкой сечет по головам. Раз, другой замахнулся, и скамейка, как подрубленная, на землю хлоп. Толпа к дверям, в окна. Кто-то в лампу бутылкой. А оркестр шпарит, уже не польки, обереки — молнии, громы. И все надсадней, громче, перекрывая крики, визг, крепкие словца.
А зал опять кто-то наклонил, в другую сторону. И потом обратно. Не поймешь, стоит он или лежит. Девчонки за куртки, за рубахи, за руки цепляются, на шее виснут, на плечах, тянут тебя куда-то, плачут, скулят, визжат. Да не до девчонок тут, когда пошли в ход ножи. Где-то затейник надрывается — пара за парой! пара за парой! в кружок! все пары танцуют! И вдруг как ойкнет, одни только разноцветные ленты вьются, где затейник был. Кто-то стулом принялся махать. Раз-другой махнул и потонул в толпе. Куда там со стулом, когда здесь ножи на ножи. Кровь на кровь.
А зал уже покатился с высокой горы. Грохот, стоны, проклятья. Бутылки звенят. Уже только одна лампа болтается под потолком. Где-то другую зажгли. Вроде возле буфета. Но вот и ее бутылкой снесли. Стекло посыпалось. И снова зал взбирается в гору в темноте, в пыли. Сопение только слыхать. И от ножей шуршанье, как от кос в страду. И снова вниз. Куда-то под оркестр. У музыкантов руки немеют. Играть! Играть! Эй, оркестр, марш! Скрипач марш начинает, а его кто-то в бок. На белой рубашке кровь. Скрипка точно с неба на землю летит. И барабан захлебнулся, не доиграл, потому что и его кто-то пырнул в незащищенное брюхо. И гармонь разодрана. И кларнет об голову кларнетиста разбит. Черт бы побрал оркестр! С него ведь все началось.
И нет больше оркестра. А в окнах ни единого стекла. И буфет перевернут кверху дном. И от лент под потолком обрывки одни. А вместо куртки лохмотья на плечах. Рубашку иной раз хоть выжимай от своей крови и от чужой. А еще с песней возвращаешься домой.
Раз после такой гулянки мужики на телегах нас развозили, изрезанных как свиней. Я тогда недели три на чердаке над хлевом провалялся, потому что кого-то отправили на тот свет и полиция, разыскивая виновного, шныряла по деревням. Но это все равно что ветра в поле искать. Попробовал бы кто в драку на гулянке встрять — неужто б узнал, который виноват? На гулянке ни виновных, ни невиновных нет. Все куда ни попадя тычут ножами, один другого может и до смерти зарезать и не будет даже знать кого. Или его зарежут, и он тоже не будет знать кто. Бог только может знать, кто виноват, но не полиция.
Мне бок продырявили и спину в двух местах. На брюхе только и мог лежать. Прикладывала мать к ранам разные травы. Но что-то не спешили они заживать. Видать, нож был заржавелый. Кровь все сочилась и сочилась, а мать плакала:
— Шимек, дитятко. Пожалел бы меня. Еще убьют тебя когда. Я не переживу.
Читать дальше