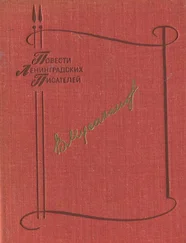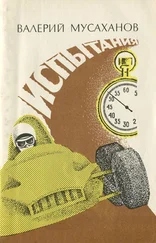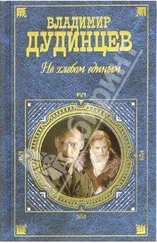Я достал ключи от машины, открыл дверцу и сел за руль. На душе было неприятно: день начался плохо и еще по пути на работу нужно было повидать Краха. Если он появился вчера возле моего жилья после утреннего нашего свидания, значит, что-то случилось.
Улица казалась светлее двора, а когда я доехал до Баскова и взглянул налево, то увидел в просвете домов белесо розовеющий край неба и подумал, что погори может еще разыграться. Настроение стало чуть лучше. По Жуковского я выехал на Литовский, пересек площадь Восстания и остановил машину за квартал до Свечного.
Здесь было многолюдно на узком тротуаре. Люди шли по-утреннему быстро. Глухо шумели переполненные трамваи. Шипели баллоны машин по сырой мостовой. Воздух казался серым и дымным. Литовский не был парадным проспектом города.
Я вылез, захлопнул дверцу, сунув руки в карманы, потоптался возле машины, чтобы оглядеть проходящих людей. Кажется, никто не интересовался мною, но на всякий случай, отойдя на десяток шагов от машины, я резко повернулся, возвратился и запер дверцу. Быстро дошел до Свечного, свернул направо и сразу же вошел во двор. Крах жил на противоположной стороне, и до его дома было еще полсотни метров. Я прошел эти метры двором, вошел в сквозную парадную, выходившую в переулок как раз против ворот нужного мне дома, и осторожно выглянул. На углу Лиговского, где был продуктовый магазин, смутно двигались какие-то фигуры, но мрачный узкий переулок был пуст. Я выскочил из парадной. В колодезном дворе посмотрел на окно третьего этажа, увидел тусклый свет за тюлевой сборчатой занавесочкой и стал подниматься по черной лестнице. Дверь в квартиру открылась передо мной, из нее выскочил парень лет семнадцати, на ходу застегивая кургузое пальто.
— Николай Фомич дома? — спросил я его.
— Не знаю Зайдите, — скороговоркой ответил он и пустился вниз, прыгая через несколько ступеней.
Я никогда не был у Краха в комнате. Случалось, довозил его до переулка. Окно он показал мне сам — на всякий случай. А сейчас, войдя в узкий темный коридор, загроможденный хламом, я испытал странное чувство узнавания, будто уже не раз был здесь, в этой типичной для бедных районов старого Петербурга квартире. Бочком, чтобы не задеть свисавшее со стен шмотье, я пробрался на тусклый свет, шедший, видимо, из кухни, и постучал в дверь справа. За дверью тяжело зашлепали шаги и послышался скрипучий удивленный голос Краха:
— Кто?
— Откройте, милиция! — повелительно сказал я и, услышав, как он отпрянул от двери, рассмеялся.
— Ну, ты даешь, Петрович, — сказал Крах придушенно, когда я затворил за собой дверь.
— Что, сыграло жим-жим родимое? — спросил я, видя, как он тяжело сел на край постели, растирая грудь под желтоватой, без воротничка рубахой.
— Сыграет, — отдуваясь, обиженно пробурчал он.
Я оглядел всю его сгорбленную фигуру в мятой ночной рубахе и кальсонах с болтающимися у щиколоток тесемками. Тонкая шелковая сеточка была натянута на голову для сохранения прически на ночь. Я отвел глаза и сказал:
— Ну, прости, — и завертел головой, бегло осматривая комнату.
Даже самое безбытное жилище несет отпечаток хозяина. Комната Краха хранила только отпечаток безликости, как дешевый номер провинциальной гостиницы, — желтенькие с невнятным рисунком обои, небольшой квадратный обеденный стол, придвинутый к стене, три коричневых стула с жесткими сиденьями и спинками, зеленая стеклянная пепельница на желтой под дуб столешнице, такой же двустворчатый платяной шкаф возле двери, у окна на низкой тумбочке небольшой телевизор, у правой стены комнаты стоял диван, служивший Краху постелью, — и все. Комната эта могла показаться выморочной, если бы не дешевая картонная акварель над телевизором и три горшочка с какой-то вьющейся зеленью на низком подоконнике.
— Что ты вчера нарисовался во дворе? — спросил я, видя, что Крах отдышался и достал папиросу из пачки, лежавшей на стуле возле дивана.
Он закурил, глухо закашлялся после первой затяжки, страдальчески скривив безбровое лицо с узкой полоской нарисованных усиков, бросил обгоревшую спичку в жестяную консервную баночку, стоявшую тут же на стуле и, видимо, служившую пепельницей, и только тогда ответил:
— Да вздрогнул я вчерась, Петрович, — он глубоко затянулся, — ты уж прости, что засветил там тебя. — Голос был скрипуч, как немазаное тележное колесо. — Я специально у дворняжки спросил, понял — скажет тебе. А то и не сыскать.
Он не смотрел на меня, уставившись пустыми бесцветными глазами в экран телевизора. Смесь страха и раздражения овладела мной, с досадой я вспомнил, что скрыл от Краха даже то, что у меня есть телефон, и резко спросил:
Читать дальше