Она взглянула на меня. «Возможно, так оно и есть. У каждого человека много личностей. Совершенно разных. Иногда они становятся самостоятельны и на время забирают власть, и ты совсем другой человек, которого знать не знал. Но прежний возвращается. Разве нет?» – настойчиво спросила она.
«Во мне отродясь не было нескольких личностей, – сказал я. – Я всегда один и тот же».
Она резко тряхнула головой. «Как ты ошибаешься! Придет время, и ты заметишь, как ошибаешься».
«Что ты имеешь в виду?»
«Забудь. Глянь на кошку в окне! И на ничего не подозревающую поющую птичку! Жертва ликует, да как!»
«Кошке никогда до нее не добраться. В клетке птица в безопасности».
Хелен расхохоталась.
«В клетке в безопасности, – повторила она. – Кому хочется безопасности в клетке?»
Под утро мы проснулись. Консьержка ругалась и кричала. Я открыл дверь, одетый и готовый к бегству, однако полиции не увидел. «Кровища! – кричала консьержка. – Другого места не нашла? Вот свинство! А теперь заявится полиция! И все оттого, что относишься к людям по-доброму! Тебя используют! И квартирную плату она за пять недель задолжала!»
В узком сумеречно-сером коридоре толпились соседи, заглядывая в соседнюю комнату. Там покончила с собой женщина лет шестидесяти. Перерезала вену на левой руке. Кровь по кровати стекла на пол. «Сходите за врачом», – сказал Лахман, эмигрант из Франкфурта, торговавший в Марселе четками и образками святых.
«Врача! – запричитала консьержка. – Она уже несколько часов мертва, неужто не видите? Вот так и бывает, когда пускаешь вашего брата! Теперь заявится полиция! Пускай вас всех арестует! А кровать… кто все это уберет?»
«Мы можем все убрать, – сказал Лахман. – Только давайте без полиции!»
«А квартплата? Как насчет квартплаты?»
«Мы соберем деньги, – сказала старуха в красном кимоно. – Куда нам иначе деваться? Имейте сочувствие!»
«Я сочувствовала! А меня просто используют, вот и все! Какие ж у нее вещи? Да никаких!»
Консьержка шарила по комнате. Единственная голая лампочка светилась тусклым желтым светом. Под кроватью стоял чемодан из самой дешевой вулканизированной фибры. Присев на корточки в изножье железной кровати, где не было крови, консьержка вытащила чемодан. Толстой задницей, обтянутой полосатым домашним платьем, она походила на огромное мерзкое насекомое, которое собирается сожрать свою добычу. Открыла чемодан. «Ничего! Рвань какая-то! Худые туфли».
«Вон там, смотрите!» – сказала старуха. Ее звали Люция Лёве, она нелегально продавала бракованные чулки и склеивала разбитый фарфор.
Консьержка открыла коробочку. На розовой вате лежали цепочка и кольцо с маленьким камешком.
«Золото? – спросила толстуха. – Наверняка просто позолоченные!»
«Золото», – сказал Лахман.
«Будь это золото, она бы его продала, – сказала консьержка, – прежде чем кончать с собой».
«Такое не всегда совершают от голода, – спокойно отозвался Лахман. – Это золото. А камешек – рубин. Стоят по меньшей мере семьсот-восемьсот франков».
«Чепуха!»
«Если хотите, могу продать для вас».
«И заодно охмурить меня, да? Нет уж, милый мой, не на ту напали!»
Вызвать полицию ей все же пришлось. Никуда не денешься. Эмигранты, жившие в доме, тем временем исчезли. Большинство отправилось по обычным маршрутам – в консульства, или что-нибудь продать, или искать работу, а иные в ближайшую церковь, чтобы дождаться вестей от собрата, оставленного на уличном углу в качестве дозорного. Церкви были безопасны.
Там как раз служили мессу. В боковых проходах сидели перед исповедальнями женщины – темные холмики в черных платьях. Неподвижными огоньками горели свечи, играл орган, свет искрился на золотом кубке, который поднимал священник и в котором была кровь Христа, принесшего ею избавление миру. К чему это привело? К кровавым крестовым походам, религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжениям ведьм и убийствам еретиков – все во имя любви к ближнему.
«Может, пойдем на вокзал, а? – предложил я Хелен. – В зале ожидания теплее, чем здесь, в церкви».
«Погоди еще минутку».
Она прошла к скамье под кафедрой, преклонила колени. Не знаю, молилась ли она и кому молилась, но мне самому вдруг вспомнился тот день, когда я ждал ее в оснабрюкском соборе. Тогда я встретился с человеком, которого не знал и который день ото дня становился и незнакомее, и знакомее. Теперь было так же, но она ускользала от меня, я чувствовал, ускользала туда, где уже нет имен, одна только тьма и, быть может, неведомые законы тьмы… она этого не желала и возвращалась, но уже не принадлежала мне так, как я хотел думать, пожалуй, так она не принадлежала мне никогда; кто кому принадлежит и что значит – принадлежать друг другу, обывательское название безнадежной иллюзии? Однако, когда она, по ее словам, возвращалась – на один час, на один взгляд, на одну ночь, я казался себе бухгалтером, которому до́лжно не подсчитывать, а без вопросов принимать все, что для него являет собой ускользающая, несчастная, любимая, про́клятая! Знаю, для этого есть иные названия, ничего не стоящие, скоропалительные и критические… но они годятся для других обстоятельств и для людей, полагающих, будто их эгоистичные законы суть вотивные таблички Господа. Одиночество ищет спутника и не спрашивает, кто он. Кому это непонятно, тот никогда не был одинок, просто был один.
Читать дальше
![Эрих Ремарк Ночь в Лиссабоне [litres] обложка книги](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-cover.webp)


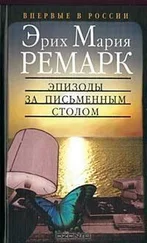
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)



буквально завтра я делаю себе Шенген, еду в Лиссабон впервые в жизни за той самой.... "жуткой отчаянной надеждой"