Один из критиков, первый высказавшийся о ней, писал: «Многие из этих картинок представляют материал для рассказов и новелл, а человек с богатой фантазией найдет в них материал даже для романов». И действительно, впоследствии вышел роман талантливой г-жи Гёрен «Die Adoptivtochter» («Воспитанница»), сюжет которого она, по собственному признанию, почерпнула из третьего вечера моих «Картинок-невидимок».
В Швеции не замедлил появиться перевод этой книжки; в ней только был добавлен один вечер. У нас же в Дании она не обратила на себя особенного внимания, и, насколько мне помнится, один Сисбю, редактор «Утреннего копенгагенского листка», посвятил ей несколько сочувственных строк.
В Англии появилось несколько переводов, и английская критика превозносила мою книжечку, называя ее «Илиадой в ореховой скорлупе»! Затем я получил из Англии пробный лист роскошного издания этой книжки; беда только, что ее, как позже и в Германии, издали с картинками!
А у нас зато все продолжали интересоваться «Мулатом», только с иной стороны, упирая главным образом на то, что сюжет его заимствован. Но ведь и Эленшлегер заимствовал сюжет для своего «Аладдина» из «Тысячи и одной ночи», и Гейберг сюжет для своих «Эльфов» из сказок Тика, но об этом не говорили: Тика мало кто знал, да и Гейберга критиковать тогда не полагалось.
Вечные напоминания о том, что я не способен сам придумать сюжет для своих произведений, заставили меня постараться опровергнуть это мнение, и я написал трагедию «Мавританка». Ею я имел в виду заставить замолчать упомянутых недоброжелателей моих и наконец завоевать себе место среди писателей-драматургов. Кроме того, я надеялся, что доход с этой пьесы в соединении с накопленной мною небольшой суммой из гонорара за «Мулата» доставит мне возможность еще раз съездить за границу и побывать не только опять в Италии, но и в Греции и в Турции. Мое первое путешествие имело ведь такие благие последствия для моего духовного развития; это было признано всеми, да я и сам сознавал, что жизнь и природа – лучшая школа для меня. Я сгорал от желания путешествовать, жаждал побольше узнать из великой книги природы, узнать побольше людей. Душой и сердцем я был еще совсем юн.
Но Гейбергу, бывшему тогда директором-цензором, «Мавританка» не понравилась; он вообще не сочувствовал всей моей деятельности как драматурга. Жена же его, которой я предназначил главную роль, прямо отказалась участвовать в пьесе. Между тем я знал, что без ее участия пьеса не будет иметь успеха, публика не станет ходить смотреть ее, а тогда и прощай, моя надежда на путешествие! Я и высказал все это г-же Гейберг, стараясь склонить ее переменить свое решение и не подозревая, что она поступала так из высших соображений; она отказала мне, и не особенно деликатно.
Я был глубоко уязвлен и не утерпел, чтобы не посетовать на нее в разговорах с разными лицами. Может быть, сетования эти были переданы иначе, а может быть, сам тот факт, что я осмелился сетовать на любимицу публики, показался Гейбергу таким преступлением, что он с тех пор в течение целого ряда лет (теперь, я надеюсь, дело обстоит иначе) оставался моим постоянным противником. Разумеется, он преследовал меня только в мелочах, – настоящим, достойным противником себе он меня ведь не признавал. Свое неудовольствие на меня он дал мне почувствовать весьма скоро. Г-жа Гейберг, напротив, никогда. И если я здесь и высказал, что она однажды огорчила меня, то считаю своим долгом, во избежание каких-либо недоразумений, тут же высказать, что всегда относился к ней с живейшей симпатией, считал ее артисткой первой величины, которая могла бы стяжать себе европейскую известность, будь датский язык столь же распространен, как немецкий или французский. Впоследствии я научился ценить в ней и прекрасную и благороднейшую женщину, относившуюся ко мне с сердечным участием. Но возвращусь к моему тогдашнему настроению. Несправедливое отношение ко мне и все передряги с пьесой так сильно подействовали на меня, что я чуть не захворал. Сил моих больше не было, я махнул рукой на свою пьесу и думал только об одном – как бы поскорее выбраться отсюда. Многие на моем месте действительно заболели бы или же разразились бы громами – последнее было бы умнее. Самое же лучшее было убраться отсюда, и все мои друзья советовали мне это.
«Соберитесь с духом и поскорее уезжайте от всех этих передряг!» – писал мне из Нюсё Торвальдсен. «Уезжайте с богом!» – говорил мне один добрый друг, чувствовавший, как я страдаю. Эрстед и Коллин тоже укрепляли меня в моем намерении уехать, а Эленшлегер даже прислал мне прощальное напутствие в стихах. Перед отъездом молодые студенты и кое-кто из старейших друзей моих, в том числе издатель мой Рейцель, Ионас Коллин, Эленшлегер и Эрстед, дали в мою честь прощальный обед. В сочувствии и сердечном расположении ко мне этих друзей я и нашел себе некоторое утешение; мне не так уже грустно стало покидать родину. Уехал я в октябре 1840 года, намереваясь вторично посетить Италию, а оттуда проехать в Грецию и в Константинополь. Впечатления этого путешествия переданы мной в «Базаре поэта».
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


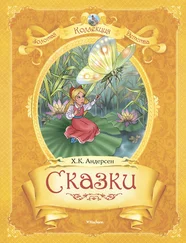

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






