На нашей елке присутствовали и Торвальдсен, и Бюстрём. Для Торвальдсена я, как сказано, сплел венок и написал стихи, но рядом с венком положил желтые воротнички, которые должны были достаться кому-нибудь по жребию. Вышло так, что они достались Бюстрёму, надпись же на них гласила: «Желтые воротнички зависти оставь себе, а венок, что лежит рядом, преподнеси Торвальдсену!» В обществе произошло замешательство от такой бестактной или умышленно злой выходки. Скоро, однако, выяснилось, что все вышло совершенно случайно, а когда узнали, что сюрприз был приготовлен мною, кого уж никто не мог заподозрить в ехидстве, то все успокоились, и веселье закипело по-прежнему.
Я написал для этого праздника песню – первую песню в скандинавском духе. В Риме наш праздник был, конечно, общим скандинавским праздником, хотя тогда еще не было и помину о нынешних «скандинавских симпатиях». Я так и озаглавил свою песню: «Скандинавская рождественская песня, Рим 1833 г.».
Песню пропели, и наступила пауза, каждому хотелось первый тост провозгласить за своего короля; наконец оба тоста были соединены в один. Упомянув в своей песне имена обоих скандинавских королей – датского и шведско-норвежского, я полагал, что поступаю вполне естественно и тактично, совсем и не думая ни о какой политике, но меня еще тут же за столом упрекнули за «многоподданство», а впоследствии до меня дошли слухи, что и в Копенгагене некоторые высокопоставленные лица очень удивлялись – как это я, разъезжая на датские деньги, воспеваю шведского короля! А мне казалось просто неприличным не упомянуть его имени в своей песне, рядом с именем датского короля, раз сама песнь пелась в кружке родственных между собою датчан, шведов и норвежцев. Все мы были ведь братьями, и каждый гость на нашей пирушке являлся в то же время и хозяином. Но не все, видно, разделяли мое мнение; это случилось лишь впоследствии, тогда же я поплатился за то, что выступил со своими скандинавскими идеями слишком рано.
Возвращаясь с пирушки с Торвальдсеном и еще несколькими членами нашего кружка и подходя около полуночи к городским воротам, в которые пришлось стучать, я невольно вспомнил сцену из комедии Гольберга «Улисс с Итаки», где Килиан стучится в ворота Трои. «Chi è?» – спросили за воротами. «Amici!» – ответили мы, и в воротах открылась узенькая калитка, через которую едва можно было пролезть. Ночь была чудная, по-нашему, по-северному, – просто летняя. «Это не то, что у нас на родине! – сказал Торвальдсен. – Просто жарко в плаще!»
Письма с родины приходили мне редко, да и те, что я получал, почти все носили тот же отпечаток поучительности, мелочности и поверхностности. Они, конечно, только расстраивали меня, и иногда так сильно, что те из земляков, с которыми я сошелся поближе, сейчас же говорили мне: «Видно, опять письмо из Дании получили? Я бы не стал и читать таких писем, порвал бы всякие связи с такими друзьями: одно мучение с ними!» Я, конечно, все еще нуждался в воспитании, вот меня и воспитывали, но грубо, безжалостно, не думая о том, какое тяжелое впечатление оставляют в сердце мертвые буквы таких писем.
Об «Агнете» не было еще ни слуху, ни духу. Первое известие о ней получил я наконец от одного из «добрых друзей» моих. Его взгляд на мое произведение рисует также общий взгляд на того Андерсена, каким я был тогда.
«Ты знаешь, что твои, я готов сказать – неестественные, чувствительность и ребячество составляют резкий контраст со складом моего характера. Признаюсь, я ожидал от тебя совсем другого, других идей, других картин и уж меньше всего изображения такого лица, как Геннинг. Одним словом, Агнета, по-моему, чересчур похожа на твои прежние стихи (NB – на лучшие), а я было надеялся, что в этом новом произведении уже скажется влияние путешествия. Я говорил об «Агнете» с Э. Коллином, и он одного мнения со мной. Он твой лучший друг и до некоторой степени ментор, и я знаю, что он тоже пишет тебе по этому же поводу, так я, с своей стороны, избавлю тебя от своих советов и нотаций. Дорогой друг, гони от себя все денежные заботы и наслаждайся путешествием вовсю! Побольше мужественности и силы, поменьше ребячества, выспренности и сентиментальности, побольше основательных познаний, и – я поздравлю друзей Андерсена с его возвращением на родину, а последнюю с поэтом!»
Письмо это было от человека, которого я любил, от одного из моих истинных друзей, моложе меня годами, но дельного и поставленного в более счастливые условия. Он, принимая во внимание мою «ребяческую чувствительность», высказывал мне свое мнение еще мягче, деликатнее всех других. Странно, однако, что он и другие разумные люди могли ожидать особенных результатов от путешествия, состоявшего, как уже упомянуто раньше, лишь в том, что я доплыл на пароходе до Киля, а потом добрался в дилижансе до Парижа и до Швейцарии, откуда уже и послал «Агнету». Результаты моего заграничного путешествия могли сказаться лишь гораздо позже, и тогда я написал «Импровизатора».
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


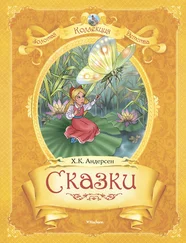

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






