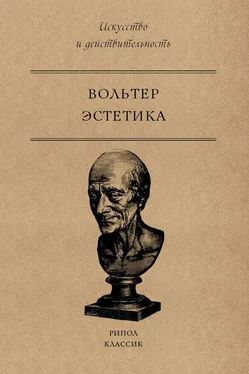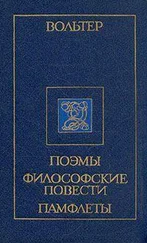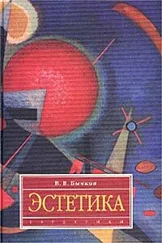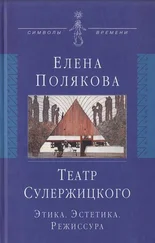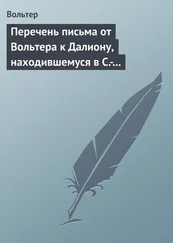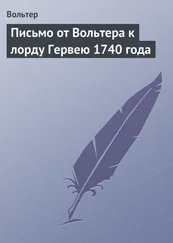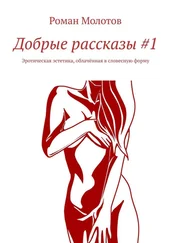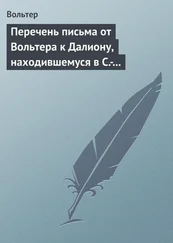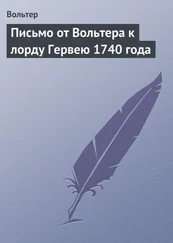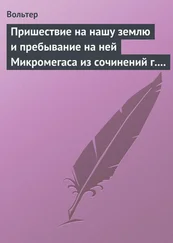Пленительное искусство Расина неизмеримо возвышается над тем, что именуется «остроумием». И если бы Пирр всегда выражался таким слогом:
Я пленник, я в цепях… О, тяжко, тяжко мне!
Кто раздувал огонь, тот сам теперь в огне…
Ты превзошла меня своим жестокосердьем.
(Расин, «Андромаха», I, 4)
Если бы Орест только и говорил: «Жестокосерднее, чем скифы, Гермиона», – оба персонажа не тронули бы публику; она заметила бы, что «истинная страсть редко ищет подобных сравнений» и что «настоящее пламя, поглотившее Трою, несоизмеримо с пламенем любви Пирра», так же как жестокость скифов, приносящих на заклание людей, несоизмерима с жестокостью Гермионы, которая не любит Ореста. Цинна говорит о Помпее:
Да, смерть Помпеева богам была нужна
Как знак, что новые настали времена:
Лишь он, прославленный, лишь он, превозносимый,
С собою в мир теней мог взять свободу Рима.
(Корнель, «Цинна», II, 1)
Мысль выражена с блеском, здесь много ума и даже впечатляющего величия. Я убежден, что хороший актер, произнеся эти стихи искусно и вдохновенно, стяжает рукоплескания зрителей, но я убежден, что трагедия «Цинна», будь она вся написана в таком духе, не долго бы удержалась на театре. Действительно, с какой стати небо должно оказать Помпею честь обратить римлян в рабов после его смерти? Было бы куда правдивее просить противоположного; душа Помпея должна была бы скорее добиться от небес сохранения навечно той свободы, за которую он, как предполагается, сражался и умер.
Не стал ли бы «Цинна» в этом случае всего лишь произведением, исполненным изысканных и сомнительных мыслей? Насколько выше всех этих блестящих идей стоят простые и естественные строки:
Ты Цинна, помнишь все, но мне готовишь смерть…
Я, я тебя прошу – друзьями будем, Цинна!
(Корнель, «Цинна», V, 3)
Это совсем не то, что называется «остроумием»; здесь – величие и простота, в которых состоит истинно прекрасное.
Когда в «Родогуне» Антиох говорит о своей возлюбленной, которая его покидает, сделав ему недостойное предложение убить мать:
Бежит, но в Парфию, стрелою нас пронзив, –
он проявляет остроумие, он разит Родогуну эпиграммой, он искусно сравнивает последние слова, сказанные ею, со стрелами, которые выпускают убегающие парфяне; предложение убить мать возмутительно вовсе не потому, что Родогуна удаляется: уйдет она или останется, сердце Антиоха равно пребудет пронзенным.
Таким образом, эпиграмма ложна, и, если бы Родогуна не покидала сцены, для этой скверной эпиграммы не нашлось бы места.
Я специально выбираю примеры из лучших авторов, чтобы они были нагляднее. Я не изыскиваю у них остроты и игру слов, неуместность которых бросается в глаза: каждого рассмешат слова Изифилы в трагедии «Золотое руно» [182] «Золотое руно » – поздняя трагедия П. Корнеля (1660).
; она говорит Медее, намекая на ее чародейство:
Я лишь привлечь могу, ты ж чаровать умеешь.
Когда Корнель пришел в театр, трагедия, как и прочие жанры литературы, пестрела такого рода несообразностями; он же позволял их себе весьма редко. Я имею здесь в виду только остроты, вполне допустимые в иных родах словесности, но отвергаемые серьезным жанром. К их авторам можно бы отнести слова Плутарха, переведенные со столь счастливым простодушием Амио [183] Амио, Жак (1513–1593) – один из крупнейших эллинистов своего времени, переводчик на французский язык сочинений Плутарха. Именно его перевод создал Плутарху славу не только во Франции, но и во всей Европе. Любопытно отметить, что английский перевод Нортса, которым пользовался Шекспир, был сделан не с подлинника, а с французского перевода Амно.
: «Ты говоришь метко, да не к месту» [184] «Ты говоришь метко, да не к месту» – неточная цитата. В переводе Амио сказано: «ты говоришь то, что нужно, впрочем, говорить этого не следовало» (слова из перевода «Изречений лакедемонян»).
.
Мне вспоминается один из блестящих оборотов, цитируемый как образец во многих произведениях, отличающихся вкусом, и даже в «Трактате об образовании» покойного г. Роллена [185] Роллен, Шарль (1661–1741) – французский гуманист и историк, ректор университета, автор трудов по древней истории, истории Рима, а также «Трактата об образовании».
. Этот отрывок взят из прекрасной речи Флешье [186] Флешье, Эспри (1632–1710) – епископ, религиозный проповедник, прославившийся своими надгробными речами, из которых особенно знаменита речь, посвященная маршалу Тюренну.
, произнесенной над гробом великого Тюренна. Поистине, в сей надгробной речи Флешье почти сравнялся с непревзойденным Боссюэ [187] …почти сравнялся с непревзойденным Боссюэ… – полемизируя с исторической концепцией Боссюэ, Вольтер, однако, высоко ценил его литературный стиль. В «Храме вкуса» (изд. в 1733 г. в Амстердаме) мы читаем: «Боссюэ – единственный француз, обладающий настоящим красноречием».
, которого я называл и называю единственным красноречивым человеком среди множества писателей изящных, но мне кажется, что епископу Мо не следовало употреблять оборота, о котором я говорю. Вот он:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу