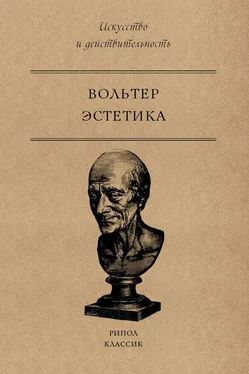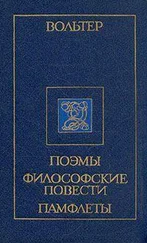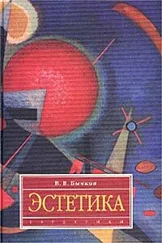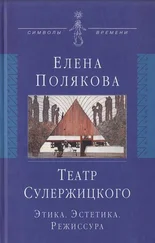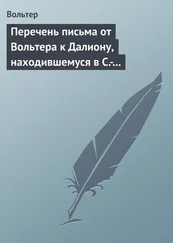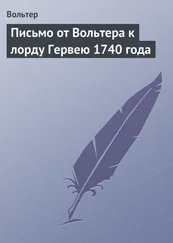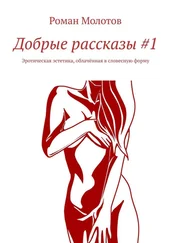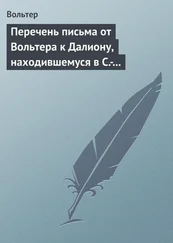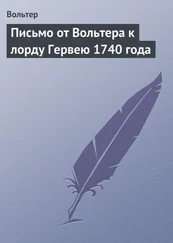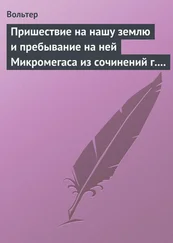Пусть те, кто знаком с настоящей литературой других наций, а не только с мотивами наших балетов, подумают о восхитительной сцене между Титом и его фаворитом, вступившим в заговор против него из «Clemenza di Tito». Я имею в виду ту сцену, где Тит говорит Сексту:
Siam soli: il tuo sovrano [450] «Siam soli: it tuo covrano…» (итал.) – «Мы одни, нет твоего господина, Сердце открой свое Титу, Другу доверься, я тебе обещаю: Никто ни о чем не узнает». (Метастазио, Милосердие Тита, акт III, сцена 6).
Non è presente. Apri il tuo core a Tito,
Conf dati all’amico; io ti prometto
Che Augusto nol saprà.
Пусть они перечитают следующий монолог, где Тит произносит слова, которые должны служить вечным поучением для всех властителей и восхищать всех людей:
…Il torre altrui la vita [451] «…Il torre altrui la vita…» (итал.) – «Отнять жизнь у другого – это самая ничтожная способность на земле. Даровать жизнь – дано только богам и царям» (Метастазио, Милосердие Тита, акт III, сцена 6).
È facoltà comune
Al più vil della terra; il darla è solo
De’numi, e de’regnanti.
Эти две сцены, сравнимые с самыми прекрасными творениями, какие знала Греция, эти две сцены, достойные Корнеля, когда он не впадает в декламацию, и Расина, когда он не теряет трагической силы, эти две сцены, в основу которых положены благородные чувства человеческого сердца, а не оперная любовь, длятся по меньшей мере втрое дольше, чем самые длинные сцены наших музыкальных трагедий. Подобных пьес не потерпел бы наш оперный театр, который держится только на галантных репликах и поддельных страстях, если не говорить об «Армиде» и прекрасных сценах из «Ифигении» [452] …если не говорить об «Армиде» и прекрасных сценах из «Ифигении»… – «Армида» – опера Люлли на либретто Ф. Кино, поставлена в 1685 г. «Ифигения» – вероятно, имеется в виду опера «Ифигения в Тавриде» (либретто Дюше и Данше, музыка Демаре и Кампра), поставлена в 1704 г.
– восхитительных произведениях, которым, однако, подражают меньше, чем они того заслуживают.
Наши самые трагические оперы, так же как и ваши, имеют одним из своих недостатков бесконечное множество вставных арий, которые еще больше, чем у вас, портят впечатление, потому что они меньше связаны с сюжетом. Слова в них почти всегда подчинены музыке, а музыканты, будучи не в силах передать в своих песенках энергичные и мужественные выражения нашего языка, требуют слащавых, праздных, туманных слов, как можно лучше прилаженных к мотивам, подобным тем, которые в Венеции называют barcarolle. Какое отношение, например, имеют к Тезею, которого узнает отец, когда тот собирается его отравить, нелепые слова:
И для себя нежданно [453] «И для себя нежданно…» – Ф. Кино, Тезей, акт V, сцена 9.
Уже в когтях капкана,
Будь трижды он мудрец.
Несмотря на эти недостатки, я все еще смею думать, что хорошие трагедии-оперы, такие, как «Атис», «Армида», «Тезей» [454] «Атис» (1676), «Тезей» (1675) – либретто Ф. Кино, музыка Люлли.
, могут дать нам некоторое представление об афинском театре, потому что эти трагедии поются, как трагедии греков, потому что хор, как он ни испорчен, будучи превращен в пошлого панегириста любовной морали, тем не менее напоминает хор древних, поскольку часто появляется на сцене. Он не говорит того, что должен говорить, он не учит добродетели, не следует завету:
Et regat iratos, et amet peccare timentes [455] «Et regat iratos, et amet peccare timentes» (латин.) – «В буйных обуздывать гнев, а в робких воспитывать бодрость» (Гораций, Наука поэзии, 196, пер. М. Гаспарова).
.
Но все же следует признать, что форма трагедий-опер в некотором отношении воссоздает форму греческой трагедии. Поэтому с помощью литераторов, которые знают античность, я пришел к мнению, что вообще эти трагедии-оперы являются одновременно и подражанием афинской трагедии и разрушением ее. Подражанием, поскольку они сохраняют мелопею, хоры, машины, божеств; разрушением, поскольку приучают молодых людей лучше разбираться в звуках, чем в смысле, предпочитать слух – душе, рулады – возвышенным мыслям и подчас превозносить самые пошлые произведения, когда их украшают арии, которые нам нравятся. Но, несмотря на все эти недостатки, очарование, которое проистекает из этого счастливого сочетания сцен, хоров, танцев, симфоний и из этого разнообразия декораций, покоряет даже самого критика, и одни и те же люди никогда не посещают самую лучшую трагедию, самую лучшую комедию столь прилежно, как посредственную оперу. Толпа не ищет правильных, благородных, строгих красот; если «Цинну» представляют один или два раза, то «Венецианские праздники» [456] «Венецианские праздники» (1710) – опера Антуана Данше (1671–1748); Данше был также автором трагедии («Тинтариды», «Гераклиды»). Данше – постоянный объект насмешек Вольтера.
играют три месяца кряду; эпическую поэму читают меньше, чем непристойные эпиграммы; занятный романчик разойдется лучше, чем история президента де Ту [457] …история президента де Ту… – имеется в виду французский историк Жан-Огюст де Ту (1553–1617), автор книги «История моего времени», проникнутой идеями веротерпимости; книга де Ту была внесена папской цензурой в индекс запрещенных книг.
. Мало частных лиц заказывают картины великим художникам, но фигурки уродцев, которые привозят из Китая, раскупают наперебой. Кабинеты отделывают позолотой и лаком, а благородной архитектурой пренебрегают, – словом, во всех жанрах мишура берет верх над истинным достоинством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу