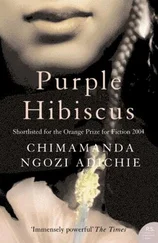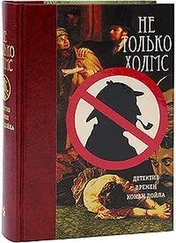— Да, — ответила я. Мой живот издавал отчаянно громкие звуки, бурча и завывая, даже когда я попыталась его втянуть.
Папа еще некоторое время рассматривал табель, а потом сказал:
— Пойдем на ужин.
Пока я спускалась, мои ноги казались лишенными суставов палочками.
Папа принес на пробу образцы новых печений и перед началом ужина передал нам зеленый пакет. Я с готовностью откусила печенье.
— Очень вкусно, пап.
Папа тоже откусил кусочек и прожевал, затем посмотрел на Джаджа.
— У него новый, свежий вкус.
— Замечательно, — отозвалась мама.
— Бог даст, оно будет хорошо продаваться, — подвел итог папа. — Наши сухари лидируют на рынке, а это печенье составит им достойную компанию.
Я не смотрела на отца, пока он говорил, не могла. Вареный батат и пряная зелень не лезли мне в горло, отказываясь быть проглоченными с той же неудержимой решимостью, с которой малыши не отпускают руку матери у дверей в детский сад. Чтобы справиться с ними, я пила воду стакан за стаканом, и к тому времени, когда папа приступил к благодарственной молитве, мой живот раздуло. Закончив молитву, папа сказал:
— Камбили, поднимись наверх.
Я пошла следом за отцом. Он, в красной шелковой пижаме, поднимался по ступеням передо мной, и его ягодицы вздрагивали и покачивались под тонкой тканью, как желеобразный акаму. Папина спальня была отделана в кремовых тонах. Каждый год ее ремонтировали, но перемены никогда не выходили за рамки оттенков бежевого. На полу лежал пушистый бежевый, без рисунка, ковер, в котором утопали ноги, шторы по кайме украшала тонкая коричневая вышивка. Два бежевых кожаных кресла были сдвинуты, словно предназначались для людей, занятых глубоко личной беседой. Все эти цвета подходили друг другу так хорошо, что комната будто расширялась, выглядела почти бесконечной. Мне казалось, что, попав в нее, я не смогу убежать, потому что бежать будет некуда. В раннем детстве я представляла Рай как комнату папы — с ее приглушенным светом, нежными мягкими поверхностями и ее бесконечностью. Когда харматан приносил с собой грозы, стегая ветвями манговых деревьев наши окна и перекрещивая уличные электрические провода так, что они исторгали яркие всполохи и искры, я прибегала прятаться в папины объятия. Он усаживал меня на руки или укутывал в плед, от которого пахло уютом и безопасностью.
Сейчас, заняв самый краешек кровати, я тоже куталась в этот плед. Тихонько выскользнув из тапок, я погрузила ноги в ворс ковра, решив спрятать их там. Пусть хотя бы часть меня почувствует себя в безопасности.
— Камбили, — сказал папа, тяжело дыша, — ты недостаточно потрудилась в этом полугодии. Ты не стала первой потому, что сама так решила.
Его глаза были грустными. Пронзительными и грустными. Мне хотелось коснуться его лица, погладить щеку. Его глаза таили множество нерассказанных историй.
В этот момент зазвонил телефон. С тех пор как арестовали Адэ Кокера, нам часто звонили. Отвечая, папа говорил очень тихо. Я молча ждала, сидя на кровати, пока он взмахом руки не отпустил меня. Он не звал меня ни на следующий день, ни после этого, поэтому мы так и не поговорили о моем табеле и о том, как я буду наказана за свою провинность. Возможно, все внимание отца поглощала судьба Адэ Кокера, но даже после того, как он, спустя неделю, добился освобождения своего редактора, мы к этой теме не возвращались. Об освобождении Адэ он тоже не рассказывал. Мы узнали об этом, только прочитав заметку редактора в колонке «Стандарта», где не было ни слова о том, кто его арестовал, где его держали и что с ним делали. В конце заметки стоял выделенный курсивом постскриптум с благодарностью: «Честному, достойному человеку исключительной отваги». Во время семейного отдыха я сидела на диване рядом с мамой и, перечитав эту строчку несколько раз, закрыла глаза и испытала прилив горячего чувства. То же самое чувство посещало меня, когда отец Бенедикт говорил о папе на церковной службе.
— Слава Богу, с Адэ все в порядке, — мама расправила газету.
— О его спину тушили окурки, — папа покачал головой. — Множество окурков.
— Они получат то, что им причитается, mba , только не в этой жизни, — заметила мама.
Хоть папа и не улыбнулся ей — он был слишком грустным, чтобы улыбаться, — я пожалела, что эти слова сказала мама, а не я. Я знала, что папе нравится, когда она так говорит.
— С этого момента мы будем издаваться в подполье, — сурово сообщил папа. — Делать это легально стало опасно для моих работников.
Читать дальше