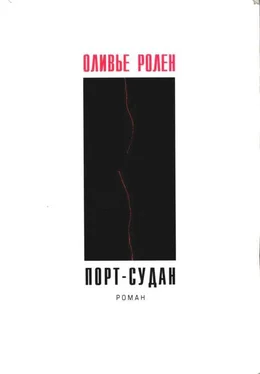Возможно, моя изоляция да и тот склон, по которому отныне катятся мои годы, банально уносят меня к сверхуслужливым воспоминаниям того, что время уже стерло. Хотя, я думаю, не напрасная ностальгия воскрешает их во мне. Было неизбежно, что все поразит меня, когда я снова увижу эти места после четверти века отсутствия, но раз это прошлое просится под перо и сегодня, когда я вновь далеко, сейчас уже точно навсегда, под молотобойным солнцем Африки, то лишь потому, как мне кажется, оно должно было звучать в письме, что сегодня я так тщательно пытаюсь восстановить. Потому что образ Парижа с черно-белых фотографий, подернутый дымкой вдали, — он знал этот Париж, он был им образован и отшлифован, а она — нет. Дело даже не в образе как таковом, а в истории, вибрирующей внутри его линий, его поверхностей, в эхе, звучащем в его формах; тот дух эпохи, что сохраняется в памяти и воплощается в материальной оболочке города. Тогда, в Париже нашей юности, еще можно было утверждать, что есть великий народ. Такие имена, как Пеги [14] Шарль Пеги (1873–1914) — французский поэт, писатель. Автор произведений, посвященных Жанне д’Арк.
или Марк Блок [15] Марк Блок (1886–1944) — знаменитый историк, участник Движения Сопротивления. Расстрелян фашистами.
, Жак Декур [16] Жак Декур — преподаватель лицея. В 1944 г. был схвачен фашистами прямо в классе во время урока и расстрелян. Одна из улиц в Париже носит его имя.
или Жан Кавай [17] Жан Кавай — преподаватель математики и логики. Участник Движения Сопротивления, убит в 1944 г.
, еще не стали совсем неуместными. Это не значит, что мы были рядом с этими именами: просто, они что-то значили для нас, они были значительной частью нашей культуры. Гуляя по улицам, куда глаза глядят, рассеянно разглядывая людей, и особенно вечером, праздно шатаясь, машинально глядя на то, что стало с великим образом, всеобщим и родным одновременно, огромным сверкающим полотном картинок, простертым повсюду, проникшим в каждый закуток, уравнивающим и маскирующим все, я понемногу улавливал несомненное: все это кончилось, больше не стоял вопрос ни об истории, ни о морали, ни даже, серьезно говоря, о политике — все это безнадежно устарело, как наши седые волосы.
Мы не должны говорить, подобно Пеги, что были героями. Это неправда, потому что наш пыл был сбит с толку, а благородное желание броситься в волны истории испорчено по глупости, на самом же деле герой не бывает слабоумным. Чтобы вписаться в традицию, у нас были самоотверженность, мужество, которые мы растеряли по глупости, а традицию надо чтить и следовать ей. Аскетизм и суровость еще не оправдывают все. Свобода говорить, читать, писать, судить, любить, переезжать, выбирать — ничего из того, что длительный и продуманный мировой обычай учил нас почитать, не пощадило наше странное неистовство. Я не забываю и того, что мы начали нашу взрослую жизнь, предпочтя из всех существующих прав право на ошибку. Конечно, мы были не первыми, но те, что поклонялись до нас этим ужасным идолам, их уже нет, а мы принесли им совсем другие жертвоприношения (прежде всего, свой ум), об этих жалких, вырождающихся, мафиозных божках Борхес упоминает в своей сказке Ragnarok [18] Ragnarok — в переводе с древнескандинавского «Судьба богов» — название рассказа известного аргентинского писателя Луиса Борхеса.
. Изначальный парадокс наших жизней, отметивший их неизгладимой печатью, может даже проклятием, которое мы дальше не передали, в том, что мы приложили столько сил во имя чертовски дряхлых идей. Мы никогда не должны говорить, что были героями, мы должны смеяться над теми, кто это утверждает, стыдить их за болтовню, показывать им, что тем самым они говорят неправду, но мы и не должны забывать, что у нас было слепое стремление к героизму или к святыням, пусть называют это как хотят, не позволять говорить, что этого не было. Зато мы можем утверждать вместе с автором Нашей молодости [19] Стихотворение Шарля Пеги.
, потому что лучшие из нас (худшие и шуты нас не интересуют, оставим их) все еще постоянно ощущают, что в те годы мы вступили в царство неизлечимого беспокойства. Пусть мы навсегда отказались от спокойствия, особенно от того спокойствия, которое сейчас, в конце века, покупается в супермаркете.
Я уже сказал, что пытался как можно вернее восстановить прерванное письмо моего друга. Трудно точно определить, из чего состоит эта скрупулезность; кажется, что послание всего лишь из двух слов может с одинаковой правдоподобностью поддаваться любому толкованию. На самом деле — не так. То, что он захотел написать мне накануне своей смерти, мне, хотя не видел меня около двадцати пяти лет, и то, что в конце концов он отказался от этого, — каждый из этих фактов сам по себе имел значение и сокращал число возможных толкований. Очевидно, он хотел объяснить мне причины своего поступка, разлука, безусловно, явилась основной и последней из них, но причины эти были еще как-то связаны с той неудовлетворенностью и беспокойством, что объединяли нас через годы. И, видимо, эти причины были настолько сложны и запутанны, что его перо споткнулось о пару этих совершенно банальных слов «Дорогой друг», и в конце концов он предпочел молчание.
Читать дальше