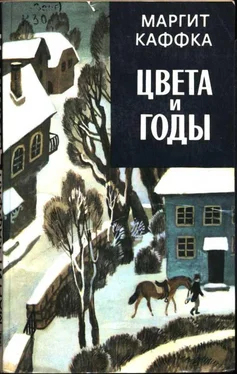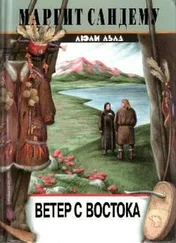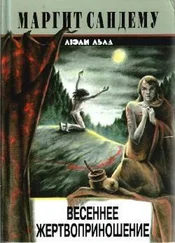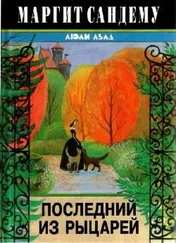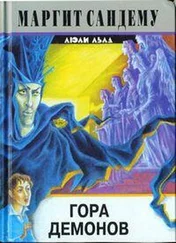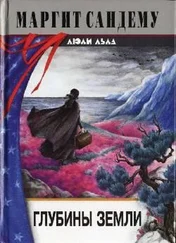Весь город высыпал на улицы. Под Замком в новых платьях прогуливались дамы и в неестественно торжественной позе шпалерами застыли солдаты гарнизона. Вот и вереница экипажей, так и мелькают друг за другом: графиня-мать, молодая графиня с гофмейстером, седовласые генералы. И наконец, дворянский эскорт: горделиво гарцующие кони в узорных чепраках, — изящные, благородные животные. Какая красота, какая красота. Нет, лошадь — самое совершенное и достойное человека живое орудие, поистине способное волновать чувства, даже женские. Вон молодой Хирипи — исправник, мой кузен, а Кенди-то, бесподобен! Оба Кехидаи рядом, и Галгоци, отец с сыном… Ого, да это Табоди! Неужто он? Согласился… Что бы это значило? Ой, а Бойер! Седовласый, в эффектной, лиловой с золотом венгерке, султан с крупной бирюзой и четыре верховых позади. Вот Тибор Генчи, еще один-два, и все, конец! Нет, не много; внушительно, но малая, слишком малая частица.
Весь остальной день был сплошным приготовлением к вечеру: выспаться, одеться, причесаться.
Мы, то есть Женское общество, устроили благотворительный базар для понаехавших в город, искавших развлечений провинциальных дворянских семейств. К графу на ужин с вельможами были званы из них лишь Кенди да старик Бойер, но и те одни, без жен.
Торговали мы румынским домашним тканьем, кустарными деревянными игрушками, цветными шерстяными передниками и всякой подобной всячиной. В одном ларьке продавалось у нас мясо прямо с жаровни, в другом — сладости; был сигарный киоск и будка с шампанским. В этой последней хозяйничала я с двумя девушками из родни. Это было раззолоченное, обтянутое шелком сооружение наподобие цыганского шатра, и мы сидели у входа тоже в сборчатых алых шелках, монистах и разных восточных побрякушках, с переливчатыми каменьями в распущенных волосах.
Сразу подошел Денеш Хорват и устроился в шатре на табуреточке, испросив у Ене позволения остаться, хотя напротив торговала сигарами Илка Зиман.
Дивный, великолепный вечер… или только в памяти сохранился он таким — вплоть до мельчайших подробностей? Ни одна не ускользнула за много лет. Приезжие явились все, но и для городских вход был свободный; народ так и валил в просторный зал ратуши, растекаясь меж колоннами, ларьками и киосками по ковровым дорожкам. Мои кузины наливали шампанское, а я гадала на картах и по руке, но не всякому и не за прекрасные глаза.
— Не боитесь вы бросать вот так вызов судьбе? — монотонно и будто с полным ртом бубнил, по своему обыкновению, Хорват. — Ну, да вам и с судьбой можно шутить безнаказанно. Нет, для цыганки вы просто непозволительно, пугающе красивы! Она бьет, пронизывает, ваша красота, как молния. Даже смотреть больно.
— Не часто вы мне комплименты говорите, — отмахнулась я, смеясь, но глядя ему прямо в глаза. — Зато уж как возьметесь, одарите на целый год. Чтобы потом больше не беспокоиться.
— Ах, да что вы знаете про мое беспокойство! — возразил он серьезно, выдержав мой взгляд.
Я отворотилась, даже несмотря на общее поклонение чувствуя себя польщенной столь стойкой рыцарской преданностью.
Близилась полночь. В набитом зале — тепловатая парфюмерная духота. Публика сторонняя, городская начала понемногу расходиться, собираться восвояси. Базар стал приобретать домашний оттенок обычной светской вечеринки. У шатра остановился Сечи; руки по швам, ждет, пока я стасую карты.
— Снимите!
— Какой рукой?
— Левой!
Я гляжу испытующе ему в лицо. Виски уже посеребрила седина, и в этом мешковатом сюртуке у него далеко не такой бравый вид, как утром, в венгерском дворянском мундире, на ретивом нарядном коне. Но смуглая сухощавая голова куруца [34] Куруц — повстанец; так назывались участники антигабсбургских освободительных движений XVII–XVIII вв.
, орлиный, с горбинкой нос, зоркие глаза по-прежнему красивы. И эта небрежная, чуть печальная лихость, которая десять лет назад покорила мою мать и свела когда-то в могилу одну юную мечтательницу… Этот человек еще опасен, еще может погубить.
— А ну, много мне еще жить?
— Больше, чем вам хотелось бы! Но разложим по порядку. В прошлом: много было всякого, много воды намутили, да мало отдыхали душой, забывались по-настоящему. Что сейчас: оскомина; ожидание, но усталое, — вот как если оступишься, остановишься и скажешь: «Ну, ладно, как выйдет, так и выйдет; со щитом или на щите, но больше не дерусь». Что вас ждет…
— Нет, ведунья, хватит! — Сечи поймал мою руку с картами и сжал. Два смуглые пальца крепко обхватили мое запястье над браслетом. Отобрав карты, он положил их на скамейку. — Зачем же все вытаскивать вот этак, выставлять… Меня теперь ничего не стоит повалить. Мне, поверите ли, до того все опостылело. Жизнь тащит, а упираться надоело, ну и пусть! Опостылело все!
Читать дальше