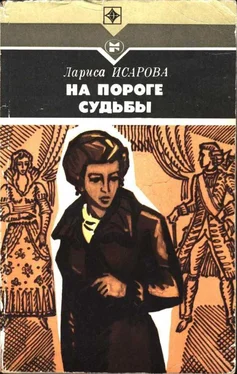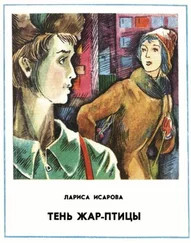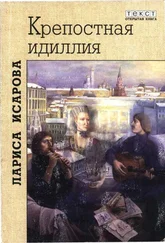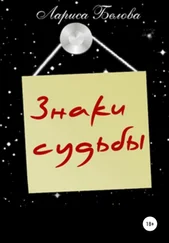Он вскочил. Ноги не держали. Парашу обнаружили в сугробе неподалеку от Фонтанного дома. Она выскочила в чем была и, замерзая, потеряла сознание.
Несмотря на растирания, Прасковья Ивановна долго не возвращалась в мир, где ее унизили, оскорбили, предали. Она ушла в одном платье, ушла, чтоб не видеть его. Он понял явственно, что страшнее дня для него не было на земле. Только сей момент познал он, что и впрямь не рождена рабой его Параша…
Граф ходил из угла в угол, пока ее растирали, согревали, лили в рот аглицкий джин. Он видел, как начинало серебриться окно, слабый сероватый денек вползал на землю, ему все мерещилось ее застывшее маленькое лицо, острый нос, тонкие руки, настолько тонкие, что он дрожал, как бы их не переломили при растирании.
Потом он услышал ее тяжелый лающий кашель. Сердце его колотилось все сильнее. И мать ее померла от чахотки…
Кашель становился безудержнее, озноб ее усиливался, она в любую секунду могла ускользнуть из-под его барской воли. И, перекрестившись, он подошел к секретеру, написал несколько строк на гербовой бумаге, приложил печать и вошел в ее спальню.
Глаза Параши лихорадочно блестели, она стискивала зубы, но озноб так ее подбрасывал, бил и мял, что тряслась кровать. На нее навалили множество шуб, покрывал — ничто не помогало.
Он подошел, велел всем исчезнуть и приблизил бумагу к глазам Параши.
— Живи! — сказал шепотом. — Живи, глупая…
— Что это? — Губы шевельнулись мертвенно, безучастно.
— Вольная… твоя вольная…
Несколько секунд она смотрела, не понимая, потом начала подниматься.
— Дай, дай, — шептали ее искусанные воспаленные губы, и, как ребенок, она тянулась к бумаге, но у нее не было сил взять ее в руки.
— Поклянись, что не бросишь меня, перед образами клянись… «Отпущена на волю от меня навечно…»
Голос графа плыл над лежавшей Парашей. Лицо дробилось в волнах жара. Она не помнила, наяву ли, но шепнула ему и себе:
— Никогда, до самой смерти…
Вольная легла ей на одеяло. Она дотянулась до бумаги пальцами. Дрожь в них стала исчезать, пока она гладила буквы, тихо, нежно. Вот и она стала человеком…
А потом привиделась ей Италия — траттории, о которых слышала, синее небо, точно декорации, сладкое солнце. Она отбрасывала покрывала, пылая жаром, они казались землей, ее погребавшей. Она плакала. Нельзя даже грешную душу живой в могилу опускать, и все время пыталась петь…
Очнулась под утро, счастливая. Краснея, она благодарила его, целовала руки, шептала о мечте поехать вдвоем в Италию, плыть в гондоле по каналам Венеции, увидеть римский Колизей, услышать настоящее итальянское пение. Граф вдруг вспомнил, как в детстве получил от отца в подарок часы-бригет, дорогие, французские. И так ему понравилось заводить их резным ключиком, что пружина вскоре лопнула со стеклянным звоном…
А она строила планы, говорила об опере «Дидона» Глюка. Она ее тайком разучивала и начала даже напевать слабеньким увядшим голосом…
Вскоре приехал Лахман, его личный врач. Долго слушал Парашу с успокоительно-ласковым лицом, щекоча пушистыми усами, потом вошел в кабинет графа и сказал тихо, точно виноватый:
— Жить ей немного… чахотка…
— А петь?
Старый врач пожал плечами, стараясь не смотреть в помертвевшее лицо Николая Петровича Шереметева.
Параша болела долго. Доктора хмурились, слушая ее неутихающий кашель. Но она сияла. Вольная лежала под ее подушкой. И она представляла, как уговорит графа позволить ей жить отдельно, в своем маленьком доме. Мечтала его там принимать как дорогого друга, но не барина, не хозяина. А может быть, он даже позволит ей выступить в городском тиятре…
Граф повелел купить ей двух попугайчиков-неразлучников и двух обезьянок, чтоб они ее дивили, веселили в его отсутствие. Ей казалось, что раньше на нее давила надгробная плита, а теперь она светло и радостно смотрела на солнце, на падающий снег за окном, на смолистые, потрескивающие в камине дрова. Потом ей принесли еще двух соловьев и чижат. Их она пожалела до слез. Певчих птиц нельзя держать в клетке, а потому попросила отпустить на волю в вербное воскресенье…
Смех все чаще звенел в ее опочивальне, и граф начал успокаиваться, похохатывать, когда вдруг замечал, подойдя к ее кровати, слева и справа у ее плеч темные мохнатые мордочки обезьян. Мартышки полюбили залезать к ней под одеяло и устраивали прятки, доводя ее от смеха до трудного долгого кашля.
Старый придворный лейб-медик Рожерсон, любитель ливреток и тончайшего табаку, высокий, сухой, с важностью носивший по два пожалованных перстня на каждой руке, сказал через месяц, глядя в окно, старательно минуя взглядом глаза Шереметева, что больше петь Параше нельзя.
Читать дальше