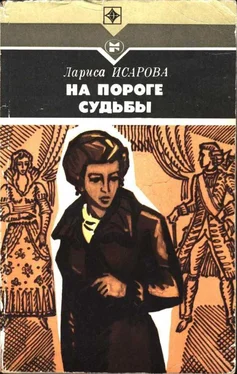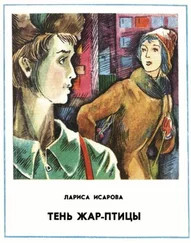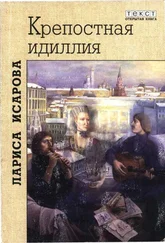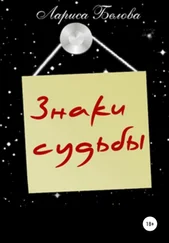Маленькая старушка, много ниже меня, шлепая тапочками и запавшими губами, спросила:
— Что вам угодно?
Я узнала старушку, которая когда-то воевала с Марусей Серегиной в «Кулинарии», выбирая «котлетки попышнее». Значит, это и есть бабушка Парамонова? А где же остальное население квартиры?
— Я учительница из школы вашего младшего внука… — сказала я.
Она заулыбалась, потом подошла к треснувшей вазе, нырнула туда рукой, вытащила челюсти, ловко забросила их в рот, пожевала губами и вполне светски наклонила голову.
— Очень приятно.
— А где родители вашего внука?
Старушка помрачнела.
— В данный момент вся его семья — прабабушка. К счастью.
Кажется, она соскучилась по человеческому голосу… Старушка села. Она выглядела очень опрятно в своем стареньком халатике с кружевным белым воротничком, заштопанным, но заколотым старинной брошью. Правда, гранатов в броши осталось так же мало, как зубов у прабабушки Парамонова, но работа была прекрасная. Такие броши я видела на старинных фотографиях, когда дамы стоят в блузках с высокими воротниками и буфами на рукавах, пышные черные юбки, прически валиком…
— У Степы нет семьи…
Она смотрела на меня испытующе твердо, хотя глаза выцвели от возраста.
— И если бы вам удалось ему помочь — это было бы очень благородно… Степой занимался наш участковый инспектор, такой прекрасный человек!
Белые ее волосы были редкими, сквозь них просвечивала розоватая кожа, но заколола она их ломаным черепаховым гребнем, какой и сегодня на сцене носит Кармен.
— Вы не спешите, вы можете мне пожертовать минуту, две?
Я кивнула.
— Удивительный портрет! — сказала я, невольно глядя на фотографию, и она заулыбалась с некоторой долей кокетства. — Ваша матушка?
— Представьте себе — это я! Да-да, мне ведь девяносто один год… Батюшка велел, когда я кончила гимназию, чтобы меня сфотографировали на память… Он считал, что я никогда не буду свежее и счастливее…
Она вздохнула.
— Вскоре я вышла замуж за офицера. Он погиб в 1915 году, потом мне было трудно устроиться при новой власти, хотя мой батюшка был только директором почты, скромным надворным советником. Это даже меньше, чем сегодня директор бани… Простите, — старушка вскочила, — я не предложила чаю…
Я запротестовала, но она засуетилась, в кухоньке что-то гремело, падало…
Где же спит Степа Парамонов? Диван, на котором я сидела, пел и плакал подо мной при каждом движении. Круглый стол в центре комнаты, два ломаных стула, древний буфет, изрезанный ножиком…
Ни книг, ни тетрадей…
Старушка внесла пластмассовый поднос с чашкой чая. Чашка была старинная, с отбитой ручкой в форме куриного яйца на красноватой ноге…
— Не откажите в любезности откушать…
Я сделала глоток. Чай был заварен крепко, старушка в этом толк понимала…
— А где Степа занимается? — спросила я после вежливой паузы.
— Подождите, иначе я потеряю нить, все-таки я уже даже не третьей молодости…
Она еще могла шутить, героическое создание, жившее бок о бок со старшим Парамоновым.
— Когда началась война, я работала в поликлинике регистраторшей, я не хотела уезжать из Москвы. Зачем перевозить с места на место старые кости?! Дочка же поехала в эвакуацию. И поезд разбомбили. Погибла и она и дети, как мне сообщили. Ну, я написала зятю на фронт, он погоревал, он был хороший человек, но что вы хотите от мужчины?! Он женился и ушел из моей жизни. Такие старухи никому не нужны, не интересны, правда?!
Она улыбнулась.
— А я не верила, я все писала, все искала или дочку, или ее детей. Почти тридцать лет. Я продолжала работать в поликлинике до восьмидесяти, меня ценили, я была полезна. Меня ничто не отвлекало. Я только туризмом увлекалась. Ходила с рюкзаком по разным маршрутам, выносливости у нашего поколения хватало, да и походы укрепляли здоровье.
Подвижность и сохранность ее была удивительной, она почти не присаживалась.
— И вдруг радость — разыскали мою внучку, где-то в Твери… Она попала в детдом после бомбежки, фамилию свою не помнила, ей всего два года было. Ну, я ожила, стала переписываться, начала к разному начальству ходить, я — отличник здравоохранения.
Старушка гордо выпрямилась. До чего она была чистенькая, стерильная, кожа просто блестела.
— И мне позволили ее с семьей прописать в Москве, в порядке исключения, как моих опекунов…
Ее бесцветные глазки выразили такую горечь, что у меня защемило в душе.
— Приехала она и два сына, старшему — двенадцать, младшему — три. И о ужас! Она пила. Представляете, праправнучка надворного советника?!
Читать дальше