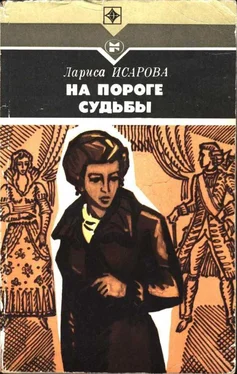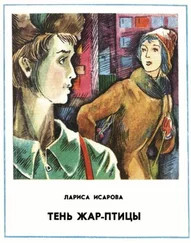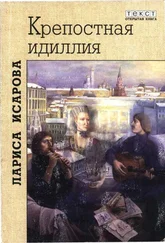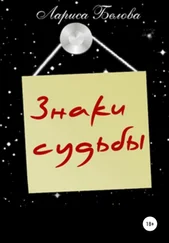— Он был в жизни игроком.
— Но ты сам доказал, как он проиграл свою жизнь…
— Зато интересно играл… Это стоит вечного блаженства и суда потомков…
— Больше, чем ты сам на себя наговариваешь, позируя, кривляясь, никто из твоих врагов сделать не может…
— Нет, я подонок, но только из любви к искусству. Понимаете, не по необходимости…
Губы его кривились в улыбке. Странно, до чего она ему не шла, старила его лицо. Знал ли он о смерти Вари?
— Подонок вроде меня делает пакости смеху ради. А подонки по необходимости — страшнее. Они всю жизнь делают гадости — ради цели, ради женщин…
Он усмехнулся и своим звучным баритоном прочел стихи Пастернака:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути.
В сердечной смуте…
Все время схватывая нить
Судеб, событий.
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
И добавил, вздохнув, ласково и снисходительно:
— Доверчивые люди всегда в проигрыше.
— Это обо мне?
— Я бы не посмел так прямо… Но бывают инфантильные души. Они никогда не взрослеют. И все принимают за чистую монету: любовь, верность, честь. Ну, вы прочли мой жалкий опус? Конечно, понимаю, он вас не потряс, вы не способны лицемерить, за это и уважаю. А мне так хотелось, чтобы именно вы меня оценили, но вы обожали фанатиков вроде Стрепетова.
— Он не фанатик, а донкихот.
— Это хуже, ему больше сочувствуют, а зря… Ладно, мы отвлеклись, могу я забрать свою рукопись?
Я не успела ее дочитать и сказала неожиданно для себя:
— Ее нет дома, я забыла твою папку в школе вместе с сочинениями.
Мое вранье было, конечно, написано у меня на лице, как у нерадивого ученика, который путано объясняет отцу, что дневник он оставил в парте, пытаясь оттянуть расплату за двойку…
Ланщиков все понял, он побелел, тяжело задышал, как рыба, выброшенная из воды. И кажется — испугался. Его разноцветные глаза обшарили мое лицо. И он неожиданно выбежал, не прощаясь.
Я села в комнате… Видимо, ничто не исчезает из памяти, только утихает, дремлет боль, обида, тоска. Ланщиков много мучил меня в школе, но я не понимала, не представляла, что и он мучился сам. Этот мальчик постоянно «выставлялся» в классе, задавал каверзные вопросы, был развязен, бесцеремонен, невоспитан… А я защищалась иронией.
Сергей чинил напольные часы, и они иногда гулко били вне времени. В кухне с Анютой сидел оцепеневший Барсов, и до меня доносилось успокоительное журчание ее голоса.
— Это моя вина, моя черствость.
Слезы безостановочно катились по лицу учительницы, но она их не замечала.
— Возьмите себя в руки.
Марина Владимировна кусала губы. Следователь Максимов впервые видел ее в таком состоянии.
— Вы так были привязаны к Ветровой?
— Она была мне как дочь…
Его густые черные брови шевельнулись, точно он нахмурился.
— Когда вы узнали обо всем?
— Вчера ночью. К нам прибежал Барсов, ее муж.
— Последнее время вы с ней не встречались?
— Она перестала бывать у меня после свадьбы.
— Вы с этим примирились?
— А как бы вы отнеслись к человеку, в которого вкладывали душу, а потом оказалось, что ты ему не нужна?
Следователь отвел взгляд, он не хотел вспоминать дочь, но знал, что с тех пор, как она вышла замуж, отец — не советчик, не друг, а только воплощение долга. Недавно она забыла об их годовщине. Тридцать три года он прожил с ее матерью, день этот начинался цветами, дочь тоже приносила букетик. Он так надеялся, что она придет одна, без зятя, который презирал сантименты, а она даже не позвонила. Но он знал, что в любую минуту придет ей на помощь, забудет обо всех уколах равнодушия, если ей станет плохо… Эта женщина — не простила, значит, и не любила по-настоящему.
Он показал учительнице смятые записки без подписи. На каждой — одно-два предложения.
«Оставь меня в покое…»
«Все коллекционеры твои — подонки».
«Или в милицию, или в петлю. Больше не могу…»
Варин почерк. Она узнала его. Крупные, круглые буквы, аккуратно сплетенная вязь.
— Кому она писала?
Марина Владимировна еще раз посмотрела на записки. Странно, без обращения, подписи. А Варя так любила шутливо обыгрывать свое имя.
«Барбара идет на войну», «Вар-Вар-Вара», «Вар-Варварюха». Да и Олега она всегда награждала смешными прозвищами: «Маэстро», «Поросенок Оль», «Ваше величество Олесь I». Так писала ему в больницу, когда он повредил ногу…
— Это не самоубийство?
Читать дальше