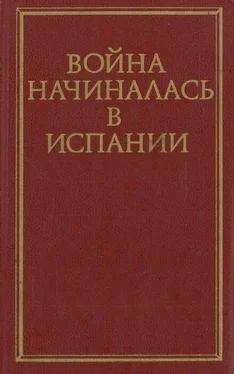…в горах Пако искали,
но найти-отыскать не сумели;
с собаками к дому ходили,
чтобы псы след его взяли;
и нюхают, нюхают злыдни
старые вещи Пако.
Колокола все звонили. А мосен Мильан вспоминал Пако. «Первое причастие — словно вчера это было». После того мальчик взялся расти, и за три или четыре года вымахал почти с отца. Люди, до тех пор называвшие его Пакито, стали звать его Пако-с-Мельницы. У его прадеда была мельница, которая теперь ничего уже не молола, и в ней хранили зерно. Там же, на мельнице, держали маленькое стадо коз. Однажды, когда козы ягнились, Пако принес мосену Мильану козленка; козленок так и остался в церковном садике.
Понемногу мальчик стал отдаляться от мосена Мильана. Почти перестал попадаться ему на улице, а навестить бывшего духовника времени не находил. Но каждое воскресенье он шел в церковь — только изредка летом пропускал мессу — и на Пасху каждый год обязательно исповедовался и причащался.
Мальчик, хотя еще и безусый, стал подражать повадкам взрослых. Теперь он уже не таясь ходил к пруду послушать, о чем разговаривают женщины, и, случалось, те метили в него ядреной шуткой, да и он за словом в карман не лез. Место, куда девушки и молодые женщины собирались стирать, называлось прудовой площадью; это и впрямь была площадь, две трети которой занимал довольно глубокий пруд. Жаркими летними вечерами молодые парни приходили сюда искупаться и плавали в чем мать родила. Прачки, казалось, приходили в смущение. Но то было лишь на словах. Крики, смех и шуточки, которыми они перебрасывались с парнями под щелканье аистов, гнездившихся на колокольне, обнаруживали простую и незамысловатую радость.
Однажды вечером и Пако-с-Мельницы пошел искупаться и часа два в полное удовольствие плавал, на радость не устававшим зубоскалить прачкам. Они подначивали его и подзадоривали — вроде бы поддевали, а на самом деле желали польстить, как это умеют делать женщины. С этого момента началась его взрослая жизнь. После того случая родители уже не возражали, если он уходил по вечерам и возвращался, когда они уже спали.
Иногда Пако разговаривал с отцом о делах семьи. Однажды они заговорили об очень важном: о том, как арендуются горные пастбища и во что эта аренда им обходится. Каждый год они вносили плату старому герцогу, который никогда не бывал в селении, а плату взимал с жителей пяти окрестных сел. Пако счел это неправильным.
— Правильно это или неправильно — спроси у мосена Мильана, он приятель дона Валериано, герцогского управляющего. Поди спроси, увидишь, что будет.
Пако с юношеской непосредственностью задал этот вопрос священнику, и тот сказал:
— Какое тебе дело до всего этого, Пако!
Пако набрался смелости сказать — он слыхал это от своих родителей, — что в селении есть люди, которым живется хуже, чем скотине, и что можно было бы им помочь выбраться из прозябания.
— Какое же это прозябание? — сказал мосен Мильан. — Есть места, где люди живут и хуже.
И стал корить его за то, что он ходит на прудовую площадь, плавает на виду у женщин. Тут Пако пришлось замолчать.
А Пако взрослел и становился все серьезнее. По воскресеньям под вечер, надев новые вельветовые штаны, белую рубашку и жилет в цветочек, он шел играть в кегли. Сидя дома над молитвенником, мосен Мильан слушал стук шаров и звяканье монет — парни делали ставки. Иногда священник выходил на балкон. Видел Пако, такого повзрослевшего, и думал: «Вот он. А ведь будто вчера крестил его».
Священнику становилось грустно: ребятишки вырастают и отдаляются от церкви, и только потом люди снова возвращаются к ней — в старости, когда начинают бояться смерти. А к Пако смерть пришла гораздо раньше старости, и вот мосен Мильан сидит в ризнице и вспоминает, вспоминает в ожидании минуты, когда ему начинать службу. А колокола все звонят на колокольне.
Снова вышел служка:
— Мосен Мильан, дон Валериано прибыл.
Священник по-прежнему сидел с закрытыми глазами, прислонясь головой к стене. Служка вспомнил еще строки:
…и в горной долине Пардина
настигли они Пако.
Сдавайся, сдавайся, Пако,
не то убьем на месте.
В дверях ризницы показался дон Валериано. «С вашего позволения», — сказал он. Дон Валериано одевался, как городские господа, только на жилете у него было больше, чем надо, пуговиц и массивная золотая цепь с брелоками позвякивала при ходьбе. Лоб у дона Валериано был узкий, глаза глубоко посажены. Усы висели, скрывая углы рта. Когда речь заходила о деньгах, он употреблял слово затраты , которое казалось ему более благородным. Видя, что мосен Мильан не открывает глаз и словно бы не замечает его, дон Валериано сел и сказал:
Читать дальше