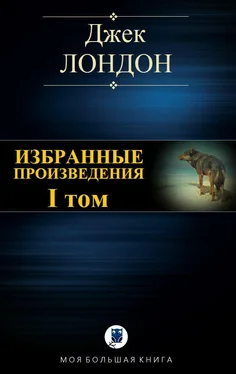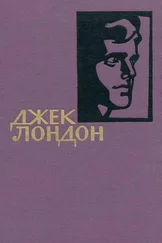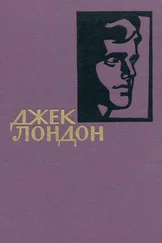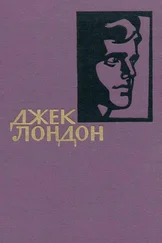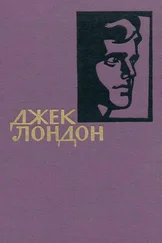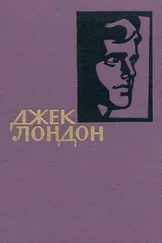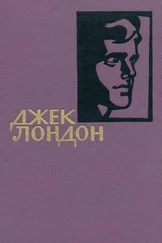Но вот в вечерних сумерках ко мне подходит человек, который не стремится к покою. Это рабочий с ранчо, старик, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мной свою шляпу, ибо я действительно являюсь властелином его жизни. Я даю ему пищу, кров и возможность существовать. Он проработал всю свою жизнь, как скотина, и жил с меньшим комфортом, чем мои лошади в своих устланных соломой конюшнях. Работа искалечила его. Он прихрамывает, одно плечо у него выше другого, узловатые руки его отвратительны, пальцы ужасны, как настоящие когти. Это по виду очень жалкий образчик человеческой породы, и мозг его так же туп, как уродливо тело.
«Тупость не позволяет ему понять, что он только призрак, — хихикает Белая Логика, подмигивая мне. — Чувства его одурманены. Он рабски предан миражу, называемому жизнью. Мозг его набит навязчивыми идеями. Он верит в потусторонний мир. Он воспринял фантазии попов, которые подсунули ему роскошный мыльный пузырь райского блаженства. Он чувствует какое-то неясное сродство между собой и несуществующими духами. Он как бы в тумане видит себя странствующим дни и ночи в межзвездных пространствах. Он непоколебимо убежден, что вселенная была создана именно для него и что он будет вечно жить в сверхчувственном мире, который он и ему подобные воздвигли из иллюзий и обманов.
Но ты, который раскрыл книги и удостоился моего ужасного доверия, ты знаешь, что он такое на самом деле — брат тебе и праху, шутка космических сил, химическое соединение, принаряженный зверь, который возвысился над другими рычащими зверями благодаря тому, что большие пальцы его рук по счастливой случайности оказались перпендикулярны остальным. Он одинаково близок тебе, горилле и шимпанзе. В гневе он выпячивает грудь, рычит и дрожит в бешенстве. Ему знакомы чудовищные звериные порывы, ибо он сплошь состоит из пестрых лоскутьев забытых первобытных инстинктов».
«Однако он верит в свое бессмертие, — слабо возражаю я. — Согласись, что для такого олуха это недурно — усесться верхом на плечи времени и разъезжать по вечностям».
«Ба! — следует возражение. — Уж не намерен ли ты закрыть свои книги и поменяться местами с этим существом, состоящим только из аппетита и низменных желаний, с этой марионеткой, пляшущей на веревочке желудка и похоти?»
«Быть глупым — значит быть счастливым», — настаиваю я.
«Значит у тебя такой же идеал счастья, как и у примитивных медуз, плавающих в стоячих тепловатых сумеречных водах, а?»
О, жертва не может сражаться с Ячменным Зерном!
«Отсюда один шаг до блаженного небытия буддийской Нирваны, — добавляет Белая Логика. — Ну, вот мы и дома. Выпей и подбодрись. Мы, прозревшие, понимаем все, всю блажь и пошлость этого фарса».
В своем кабинете, стены которого уставлены книгами, в этом мавзолее человеческих мыслей, я пью и пью, расталкиваю псов, спящих в сокровенных глубинах мозга, и напускаю их через извилины суеверия и веры на стены предрассудка и закона.
«Пей, — говорит Белая Логика. — Греки верили, что вино дано им богами для того, чтобы они могли забыть убожество своего существования. Вспомни, что сказал Гейне».
Я хорошо помню слова этого пылкого еврея. Все кончается с последним вздохом: и радость, и горе, и любовь, макароны и театр, зеленые липы и малиновые леденцы, власть человеческих отношений, сплетни, собачий лай и шампанское.
«Твой ослепительный белый свет — болезнь, — говорю я Белой Логике. — Ты лжешь».
«Лгу, потому что говорю слишком жестокую правду», — возражает она.
«Увы, да, все в этом мире шиворот-навыворот», — с грустью соглашаюсь я.
«Ну, Лиу Лин был мудрее тебя, — издевается Белая Логика, — помнишь его?»
Я утвердительно киваю: Лиу Лин, большой пьяница, принадлежал к кружку пьянствующих поэтов, которые жили в Китае много веков тому назад и называли себя «Семью мудрецами бамбуковой рощи».
«Это Лиу Лин, — торопится Белая Логика, — сказал, что пьяного житейские треволнения трогают не больше, чем водоросли на дне реки. Прекрасно. Выпей-ка еще, и пусть иллюзия и обманы жизни превратятся и для тебя в речные водоросли».
Пока я наливаю и пью своё виски, мне вспоминается еще один китайский философ, Чан Цзы, который за четыреста лет до Рождества Христова бросил вызов призрачному миру:
«Откуда я знаю, не раскаиваются ли мертвые в том, что когда-то цеплялись за жизнь? Тот, кому снится пир, просыпается для горя и печали. Тот, кому снились горе и печаль, просыпается, чтоб присоединиться к веселой охоте. Во сне они не сознают, что спят. Некоторые пытаются даже разгадать во сне то, что им снится, и, только проснувшись, убеждаются, что это был сон… Дураки воображают после этого, будто они и в самом деле проснулись и льстят себя уверенностью в том, что они действительно принцы или крестьяне. И ты, и Конфуций — только сны, и я, который утверждаю, что вы сны, сам только сон.
Читать дальше