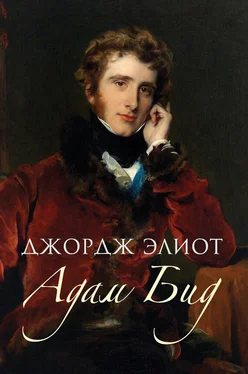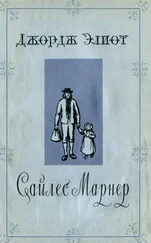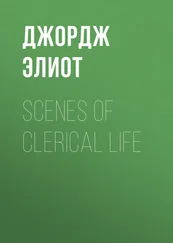Но Хетти не видела его. Она стояла в том же самом положении, в каком описывал и Бартль Масси, скрестив руки и пристально смотря на них. Адам не осмеливался взглянуть на нее в первые минуты, но наконец, когда внимание присутствия было отвлечено судопроизводством, он повернулся к ней лицом, твердо решившись не содрогаться.
Почему же говорили, что она так переменилась? В трупе любимого нами человека мы видим сходство, сходство, что заставляет чувствовать себя еще сильнее, потому что тут было нечто другое, чего уже нет. Вот они: очаровательное лицо и шея, темные локоны волос, длинные темные ресницы, округленные щеки и надутые губки; она была бледна и исхудала – это правда, но походила на Хетти, и только на Хетти. Другие думали, что она казалась женщиной, которую демон поразил своим жгучим взглядом, в которой он иссушил женственную душу, оставив только жесткое, отчаянное упорство. Но страстное чувство матери, этот совершеннейший тип жизни в другой жизни, составляющий сущность истинной человеческой любви, сознает бытие любимого ребенка даже в испорченном, павшем человеке, и для Адама эта бледная преступница с жестким лицом была Хетти, которая улыбалась ему в саду под ветвями яблонь, была трупом этой Хетти, на который он не решался взглянуть без трепета в первое время и от которого потом не мог отвести глаз.
Но вскоре его слух поразило нечто такое, что заставило его быть внимательным и отняло у его зрения поглощающую силу. В ложе свидетелей находилась женщина средних лет, говорившая твердым, ясным голосом. Она сказала:
– Мое имя Сара Стон. Я вдова и содержу небольшую лавочку с дозволением продавать курительный и нюхательный табак и чай в Черч-Лене в Стонитоне. Обвиненная, стоящая у перил, та самая молодая женщина, которая приходила ко мне, больная и усталая, с корзинкой на руке, и спрашивала комнатку в моем доме в субботу вечером двадцать седьмого февраля. Она приняла мою лавочку за гостиницу, потому что у двери находится вывеска, на которой изображена фигура. Когда я сказала, что не принимаю жильцов, обвиненная стала плакать и говорила, что чрезвычайно устала и не в состоянии идти в другое место, и просилась переночевать только одну ночь. Ее миловидность, ее положение, порядочный вид ее и ее платья… и беспокойство, в котором она, казалось, находилась, произвели на меня такое действие, что у меня не хватило духу отказать ей наотрез… Я попросила ее присесть, напоила чаем и спросила, куда она отправляется и где живут ее родные. Она отвечала, что идет домой к родным, что они фермеры и живут довольно далеко и что она совершила значительное путешествие, которое обошлось ей гораздо дороже, чем она предполагала, так что у нее почти не оставалось более денег в кармане, и она боялась зайти туда, где бы ей пришлось платить дорого. Она была принуждена продать большую часть своих вещей из корзинки, но с благодарностью готова была бы дать мне шиллинг за ночлег. Я не видела никакой причины, по которой не должна была дать молодой женщине переночевать у меня. У меня одна комната, но в ней две постели. Я сказала ей, что она может остаться у меня. Я думала, что ее сманили на дурную дорогу и что она попала в беду; но так как она отправлялась к родным, то я полагала, что сделаю доброе дело, если избавлю ее от новых неприятностей…
Свидетельница показала затем, что ночью родился ребенок, и подтвердила, что детское белье, показанное ей, было то, в которое она сама одела ребенка.
– Да, это именно то самое белье. Я делала его сама, и оно хранилось у меня с тех самых пор, как родился мой последний ребенок. Я довольно беспокоилась как о ребенке, так и о матери. Я как-то невольно принимала участие в ребенке и заботилась о нем. Я не послала за доктором, потому что в нем, казалось, не было нужды. Утром я сообщила матери, что она должна сказать мне имя ее родных и где они жили, чтоб я могла написать им. Она сказала, что скоро напишет им сама, только не сегодня. Несмотря на мое сопротивление, она непременно хотела встать и одеться, вопреки всему, что я ни говорила. Она отвечала, что чувствует себя довольно сильной, и удивительно, право, сколько присутствия духа она обнаруживала. Но я несколько беспокоилась о том, что мне делать с ней, и к вечеру решилась отправиться по окончании митинга к пастору и переговорить с ним об этом. Я вышла из дома около половины девятого. Я вышла не через лавочку, а через заднюю дверь, выходящую в узкий переулок. Я занимаю только нижний этаж дома, и кухня и спальня выходят в переулок. Я оставила обвиненную сидевшую у огня в кухне, с ребенком на коленях. Она не плакала и вовсе не казалась убитою, как в предшествовавшую ночь. Я видела только, что ее глаза имели какое-то странное выражение и что лицо ее несколько разгорелось к вечеру. Я боялась, чтоб у нее не сделалась лихорадка, и намеревалась, когда выйду со двора, сходить к одной знакомой женщине, опытной, и попросить ее, чтоб она пошла со мною. Вечер был очень теплый. Я не заперла двери за собой, потому что не было замка; дверь запирается только изнутри задвижкою, и когда в квартире не остается никого, то я всегда выхожу через лавочку, и я считала вовсе не опасным оставить квартиру незапертою на короткое время. Я, однако ж, замешкалась долее, чем предполагала: мне пришлось ждать женщину, чтоб она возвратилась со мною. Мы пришли в мою квартиру часа через полтора, и когда вошли, то свеча горела на том же самом месте, на каком я оставила ее, но обвиненной и ребенка не было. Она взяла с собою свой салоп и свою шляпку, но оставила корзинку с вещами… Я страшно испугалась и рассердилась на нее за то, что она ушла. Я не объявила о случившемся, не думая, что она сделает себе какой-нибудь вред, и зная, что у нее были в кармане деньги, на которые она могла получить пищу и квартиру. Мне не хотелось послать за нею констебля, так как она имела право уйти от меня, если хотела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу