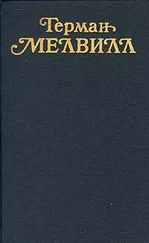Тем не менее то были переживания, кои не пошли во вред его любви к матери, равно как и не отравили ни малейшей горечью его уважение к ней; и менее всего он мог возмущаться ее высокомерной добродетельностью. К тому же он понимал прекрасно, что характер его матери сложился не одними ее усилиями, что беспредельная гордость была первой, кто пестовал ее, а после высший свет, где она вращалась, занялся дальнейшим ее воспитанием, и, наконец, гордые выражения католического Требника довершили дело.
Можно лишь дивиться тому, повторяем, сколь безошибочным было прозрение подлинного характера его матери, пришедшее к нему свыше вместе с электрическим светом, дарованным судьбой, ибо даже ярким воспоминаниям о ее пылкой материнской любви было не дано затмить собой это нежданное откровение. Любить-то она меня любит, мыслил Пьер, но как? Любит ли она меня беззаветно? тою любовью, что ради любимого существа хладнокровно выдержит натиск ненависти всего света? чей победоноснейший гимн лишь зазвучит громче в гуле враждебных насмешек и язвительных замечаний?.. Нежная мать, вот моя любимая, но ославленная на весь белый свет родная сестра, которая нуждается в том, чтоб ее признали; и если ты любишь меня, мама, то твоя любовь перейдет и на нее тоже, и потому в нашей великолепной гостиной ты подашь ей руку с тем большей гордостью… И Пьер вот так, мысленно, приводит Изабелл знакомиться с его матерью и уводит ее прочь… и затем чувствует, что его язык примерз к небу, а сам он съеживается под колючим материнским взглядом, полным недоверчивого брезгливого ужаса; и тогда живущая в сердце Пьера надежда стремительно гаснет, гаснет и пропадает совсем, а к нему впервые приходит столь мучительное осознание всей тоскливой внутренней пустоты светской жизни. О бездушный, надменный, раззолоченный, скованный вечным льдом условностей высший свет, как же я тебя ненавижу, мыслил он, ненавижу за то, что ты насмерть вцепился в нас своею алчной тиранической хваткой, и потому теперь, в моей горчайшей нужде, твои законы вот так грабят меня, лишая меня даже матери; твои законы делают меня круглым сиротой, не пуская и к ее свежей могиле, кою я оросил бы моими слезами. Отныне моим слезам – если бы я мог их пролить – я должен давать волю только в уединении, ибо с этих пор я словно брошен и отцом, и матерью, что отправились в долгие странствия и, возвращаясь, погибли в безымянных морях.
Она-то меня любит, согласен… но – почему? А будь мой дух заточен в теле жалкого калеки, что тогда? Мне вспоминается теперь, что и при самых нежных проявлениях ее любви нет-нет да сверкнут на солнце златые чешуйчатые кольца гордости. Меня она любит любовью гордячки; во мне она, как ей кажется, взирает на свою собственную кудрявую и высокомерную красоту; передо мной она стоит как пред зеркалом – истая жрица гордыни, – и своему же отражению в моих чертах, а отнюдь не мне расточает она жаркие поцелуи. О, как я гневаюсь на тебя, благосклонная богиня, коя облекала мое тело в пышные мужские покровы и скрывала за ними всю правду о том, каким мужчине надлежит быть. Я теперь понимаю, что мужчина, заботясь о своей красоте, попадает в западню и становится совершенно слепым, как гусеница, что вьет себе шелковый кокон. Что ж, ныне я открыто приветствую и невзрачность, и нищету, и бесчестье, и всех остальных из вас, хитроумных слуг правды, которые под капюшонами и лохмотьями бедняков таят, тем не менее, королевские пояса и короны. И пусть канет во тьму вся прелесть, коей обладает человеческая плоть; и пусть канут во тьму все богатства, и все радости жизни, и все, что на свете цветет каждую весну, ибо цветение это лишь покрывает позолотой железо наших цепей да осыпает бриллиантами позорные скрепы и оковы, что налагает ложь. О, сдается мне, теперь я начинаю понемногу понимать, отчего те, кто служит правде, с давних пор шествуют босые, подпоясанные веревками и в вечной скорби, словно отгороженные от всех ее мрачной завесою. Ныне я дошел до сути сих важнейших слов мудрости, с коими наш Спаситель Христос обратился к людям в начале своей главной речи: «Блаженны нищие духом, и блаженны плачущие» [79]. О, до сих пор я только сохранял на сердце добрые советы, занимался покупкой книг и приобретением какого-то скромного жизненного опыта да собирал себе библиотеку; теперь же я устроился в кресле и принялся за чтение. О, ныне я постиг тайны ночи, и испытал на себе силу колдовских чар лунного света, и заразился всеми мрачными убеждениями, что появляются у человека в штормах да бурях. О, может ли радость предугадать, что правда выйдет наружу и что печаль станет отныне ее спутником. Вот отчего понурил я голову – слишком тяжкий груз тяготит плечи; вот отчего мое сердце так сильно стучит о ребра – то узник, в раздражении сотрясающий стальные прутья своей темницы. О, все люди на свете – тюремные надзиратели, тюремщики для самих же себя; и общественное мнение, само того не ведая, удерживает благороднейшие чувства в плену у самых низменных, словно переодетого короля Карла, при попытке бегства схваченного простыми крестьянами [80]. Сердце! Сердце! Это помазанник божий; позвольте же мне следовать велениям моего сердца!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу