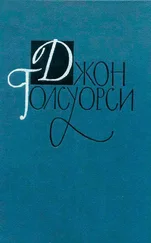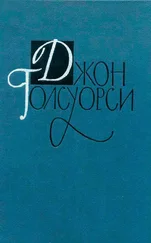- Так вы считаете вопрос решенным?
- Не мое дело решать такие вопросы, - сказал он с достоинством, положив руку на треугольник. И как только он произнес эти слова, у него за спиной снова выросла живая пирамида превосходно подогнанных друг к другу людей с совершенно одинаковым выражением глаз - как у строгого наставника, - живая пирамида, обращенная в камень силой своей незыблемости. Мне даже послышался ропот одобрения, но оказалось, что это всего лишь скрежет треугольников, которые отодвинул надзиратель.
Потом старик подошел к двери, отворил ее, и, следуя его молчаливому приглашению, я вышел за ним. В дверях я оглянулся на ослепительно блестевшие "драгоценности". Они висели на стене вокруг треугольников; и вдруг все с той же безмолвной рабской покорностью в комнату проскользнул арестант с желтым лицом, в желтой одежде с тюремным штемпелем и куском желтой кожи в руке. И прежде чем дверь с лязгом захлопнулась за ним, я увидел его за работой; он старательно чистил и без того сверкавшие "драгоценности".
С тех пор я часто вижу его во сне: один среди этих эмблем идеального порядка, он молча и сосредоточенно работает. А порой мне снится, что меня ведет куда-то старый надзиратель; у него очень строгое, неулыбчивое лицо и глаза, в которых застыла грусть о чем-то безвозвратно потерянном.
МАТЬ
Перевод В. Смирнова
Она шла, словно очень торопясь, тенью скользя вдоль оград домов. Глядя на ее тщедушную фигуру в заношенном черном платье, едва ли можно было предположить, что она родила шестерых сыновей. Под мышкой у нее был маленький узелок; она всегда носила его с собой по домам, в которых работала. И лицо у нее было худое, с усталыми карими глазами, обрамленное черными, мягкими, как шелк, волосами, выбивавшимися из-под черной соломенной шляпы; глядя на это лицо, помятое и костистое, как вся ее фигура, никак нельзя было подумать, что жизнь наделила ее достаточной силой, чтобы рожать детей.
Хотя еще не было и девяти часов, она уже проделала дома все, что можно было сделать в двух комнатах, где жила их семья: разожгла огонь под плитой, умыла младших мальчиков, приготовила завтрак на четверых, еще не ходивших в школу, подмела пол, застлала одну постель - в другой все еще лежал муж - и подала мужу чай. Она нарезала хлеб к полднику для двух старших сыновей, завернула его в газету и положила на подоконник - уходя в школу, они возьмут его с собой. Затем она отсыпала порцию угля на весь день, дала старшему сыну денег на покупку каждодневной пачки чаю и сахару, выстирала кое-какую драную одежонку, заштопала пару штанишек, надела шляпу, даже не взглянув в треснувшее зеркало, и поспешила из дому. Так как каждый пенс был у нее на счету, она ходила пешком.
Сняв черную соломенную шляпу и переодевшись в синий холщовый халат, который почти закрывал ее рваные башмаки с подметками, изношенными до толщины оберточной бумаги, она, можно сказать, была готова приступить к работе. И пока она, стоя на коленях, скребла и чистила медную посуду, какое-то приятное чувство покоя охватывало ее; глядя в зеркальную глубину натертой до блеска меди, она не думала ни о чем. Но бывали утра, когда работа подвигалась туго. Это случалось тогда, когда муж, вернувшись из пивнушки с очередных ночных словопрений, избивал ее ремнем, чтобы показать, что он над ней хозяин. В такие утра она возилась с посудой дольше обычного, зачастую приходилось чистить ее дважды, поднося совсем близко к глазам. А в голове без конца стучала мысль: "Ему не следовало бить меня, не следовало так обращаться со мной, матерью его детей". Вот как далеко заходила в мыслях эта простодушная женщина, но не дальше: ей никогда не приходило в голову, что ее сыновья, рожденные и воспитанные пьяницей-отцом, когда-нибудь продолжат его славные традиции. И очень скоро - поскольку все это было ей не впервой - она переставала размышлять об этом и, склонившись над зеркальной поверхностью меди, которая странно сплющивала и округляла ее лицо, снова работала без единой мысли в голове.
Внизу в кухне, где она обедала, она никогда не говорила о своих неприятностях, боясь, как бы это не повредило ее репутации. Она вообще говорила мало; ей не о чем было говорить, и она не могла считаться интересной собеседницей. Но время от времени в ней что-то прорывалось, и тогда она изливала на сыновей монотонный эпический монолог; казалось, вопреки всему, она видит заслугу в том>, что родила их. Из-за этих словоизвержений, которые случались не реже раза в неделю, ее дома считали неисправимой болтушкой.
Читать дальше